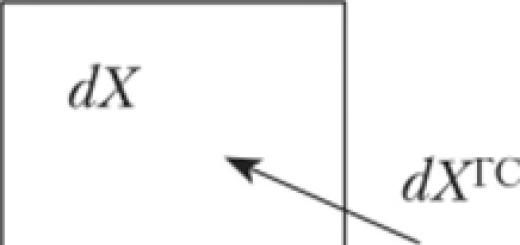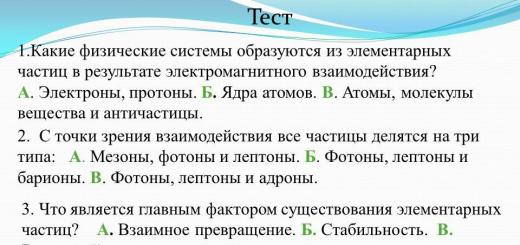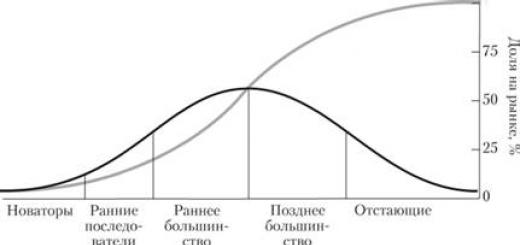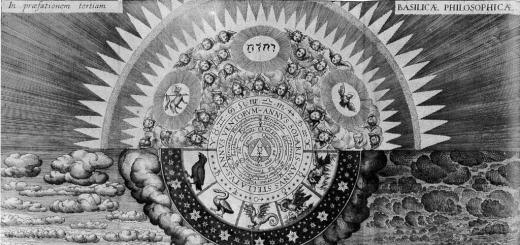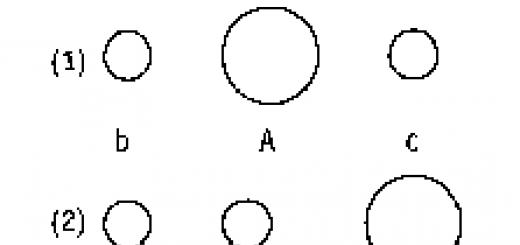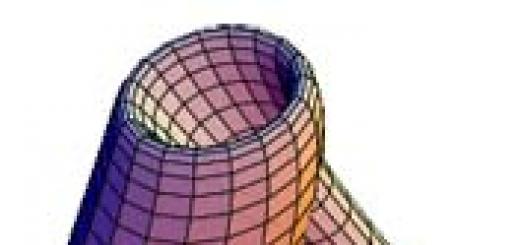Введение 3
Сноу Чарльз Перси «Две культуры и революция» 5
Заключение 11
Список литературы 12
Словарь 13
Введение
Перси Чарлз Сноу (1905–1980) – известный английский писатель и ученый. Родился 15 октября 1905 года в Лестере. Учился в Юниверсити-колледже Лестерского университета, в 1930 году получил степень доктора физических наук в Кембридже. В годы Второй мировой войны возглавлял департамент научно-технических кадров в министерстве труда. В 1964 году Сноу был пожалован титул пэра, в том же году он стал парламентским секретарем министерства техники.
Наибольшую известность Сноу принес цикл романов Чужие и братья (Strangers and Brothers), посвященный стремлению героев реализовать свои личностные и интеллектуальные возможности в период политических, социальных и научных катаклизмов 20 в. В цикл входят одиннадцать романов: Чужие и братья (1940), Свет и тьма (The Light and the Dark, 1947), Пора надежд (Time of Hope, 1949), Наставники (Masters, 1951), Новые люди (The New Men, 1954), Возвращение домой (Homecoming, 1956), Совесть богачей (The Conscience of the Rich, 1958), Дело (The Affair, 1960), Коридоры власти (Corridors of Power, 1962), Сон разума (The Sleep of Reason, 1969), Завершение (Last Things, 1970). Перу Сноу принадлежат также несколько пьес, два ранних романа – детектив Смерть под парусом (Death Under Sail, 1932) и Поиски (The Search, 1934) – и романы Недовольные (Malcontents, 1972), Хранители мудрости (In Their Wisdom, 1974) и Лакировка (A Coat of Varnish, 1978).
В научных и публицистических работах, таких, как «Две культуры и техническая революция» (The Two Cultures and the Scientific Revolution, 1959) и «Наука и правительство» (Science and Government, 1961), Сноу озабочен проблемой «двух культур» (как он сам ее определил). Убежденный в том, что ученые и писатели могут многому научить друг друга, он отводил литературе большую роль в адаптации человека к быстро меняющемуся миру.
Но чем существенно отличалась позиция Сноу от позиций критиков культуры XIX - начала ХХ веков, так это полярным изменением оценки одного и другого направления, т.е. негативной оценкой мировоззрения и социальной роли литературно-гуманитарной интеллигенции. Представители последней не желали выступать к качестве консерваторов и традиционалистов, что вызвало тогда ожесточенные, в основном публицистические дебаты.
Лишь через много лет была предпринята попытка социологического анализа поставленной и неадекватно разрешенной Ч.Сноу проблемы. Немецкий социолог В.Лепенис в 1985 году опубликовал книгу с символическим названием «Три культуры», прямо отсылающим к работе Сноу. Он показал, что именно в этой мировоззренческой сфере важную роль играет «третья» культура и именно - культура социальных наук. Если в XIX веке две фракции боролись за право формирования мировоззренческих ориентиров современной жизни, то теперь эта борьба развертывается в рамках «третьей» культуры, т.е. в рамках социальных наук, которые постоянно колеблются между сциентистской позицией, ориентированной на идеал естественно-научного знания, и герменевтической установкой, которая близка традиционному литературно-гуманитарному подходу.
Сноу Чарльз Перси «Две культуры и революция»
Английский писатель Ч.Сноу в своей знаменитой речи (вошедшей позже в сборник его публицистических работ), названной «Две культуры и научная революция», констатирует разрыв в культурном сознании интеллигенции; сформировались две группы, обладающие существенно разным культурным сознанием: с одной стороны, литературно образованная гуманитарная интеллигенция, с другой - естественно-научная и техническая интеллигенция: «Мне кажется, что духовный мир западной интеллигенции все явственнее поляризуется, все явственнее раскалывается на две противоположные части. Говоря о духовном мире, я в значительной мере включаю в него и нашу практическую деятельность, так как отношусь к тем, кто убежден, что, по существу, эти стороны жизни нераздельны. А сейчас о двух противоположных частях. На одном полюсе - художественная интеллигенция, которая случайно, пользуясь тем, что никто этого вовремя не заметил, стала называть себя просто интеллигенцией, как будто никакой другой интеллигенции вообще не существует… на другом - ученые, и как наиболее яркие представители этой группы - физики. Их разделяет стена непонимания, а иногда - особенно среди молодежи - даже антипатии и вражды. Но главное, конечно, непонимание. У обеих групп странное, извращенное представление друг о друге. Они настолько по-разному относятся к одним и тем же вещам, что не могут найти общего языка даже в плане эмоций. Те, кто не имеет отношения к науке, обычно считают ученых нахальными хвастунами» .
Различия в мировоззрении и ценностных ориентациях обеих групп имели, по мнению Ч.Сноу, принципиальный характер: если сторонники естественно-научных и технических подходов полны веры в будущее, убеждены в возможности создать процветающее общество на основе научного познания и научной организации общественной жизни, то «гуманитарии» стремятся держаться традиционных ценностей, которые считаются уже почти утраченными под натиском научно-технического прогресса: «Среди художественной интеллигенции сложилось твердое мнение, что ученые не представляют себе реальной жизни и поэтому им свойствен поверхностный оптимизм. Ученые со своей стороны считают, что художественная интеллигенция лишена дара провидения, что она проявляет странное равнодушие к участи человечества, что ей чуждо все, имеющее отношение к разуму, что она пытается ограничить искусство и мышление только сегодняшними заботами и так далее. Любой человек, обладающий самым скромным опытом прокурора, мог бы дополнить этот список множеством других невысказанных обвинений. Некоторые из них не лишены оснований, и это в равной степени относится к обеим группам интеллигенции. Но все эти пререкания бесплодны. Большинство обвинений родилось из искаженного понимания действительности, всегда таящего много опасностей» .
Чарльз Сноу приводит несколько упреков, которые предъявляют ученым простые люди и художественная интеллигенция, один из них - поверхностный оптимизм: «…Большинство ученых, которых я хорошо знаю, так же как и большинство моих друзей-неученых, прекрасно понимают, что участь каждого из нас трагична. Мы все одиноки. Любовь, сильные привязанности, творческие порывы иногда позволяют нам забыть об одиночестве, но эти триумфы - лишь светлые оазисы, созданные нашими собственными руками, конец же пути всегда обрывается во мраке: каждый встречает смерть один на один. Некоторые из знакомых мне ученых находят утешение в религии. Может быть, они ощущают трагизм жизни не так остро. Я не знаю. Но большинство людей, наделенных глубокими чувствами, как бы жизнерадостны и счастливы они ни были - самые жизнерадостные и счастливые еще в большей степени, чем другие, - воспринимают эту трагедию как одно из неотъемлемых условий жизни. Это в равной степени относится и к хорошо знакомым мне людям науки, и ко всем людям вообще» .
Это противопоставление явилось результатом переосмысления существующей почти с самого момента возникновения философского знания, но особенно характерной для конца XIX - начала ХХ века традиции разделения «наук о духе» и «наук о культуре», с одной стороны, и «наук о природе» - с другой, а также идей довольно консервативного философского течения того же времени, известного как «критика культуры». Причем, по мнению писателя, противопоставление настолько явное, что фактически сложились два непонимающих друг друга мира: «Ученые и художественная интеллигенция до такой степени перестали понимать друг друга, что это стало навязшим в зубах анекдотом. В Англии около 50 тысяч научных работников в области точных и естественных наук и примерно 80 тысяч специалистов (главным образом инженеров), занятых приложениями науки. Во время второй мировой войны и в послевоенные годы моим коллегам и мне удалось опросить 30-40 тысяч тех и других, то есть примерно 25%. Это число достаточно велико, чтобы можно было установить какую-то закономерность, хотя большинству тех, с кем мы беседовали, было меньше сорока лет. Мы составили некоторое представление о том, что они читают и о чем думают. Признаюсь, что при всей своей любви и уважении к этим людям я был несколько подавлен. Мы совершенно не подозревали, что их связи с традиционной культурой настолько ослабли, что свелись к вежливым кивкам» . Трудно с этим не согласиться, даже в настоящее время люди искусства не понимают ученых практиков, студенты МаГУ не понимают студентом МГТУ.
Одним из следствий данной поляризации писатель видит в том, что происходит моральная деградация культуры. Людям не нужно искусство, им необходимо время, чтобы успеть закончить свои «дела» - мы читаем «легкое чтиво», мы восхищаемся достижениями науки, однако современное искусство нам уже не нужно: «Так вот, книг тем не менее очень мало. И почти ничего из тех книг, которые составляют повседневную пищу писателей: почти никаких психологических и исторических романов, стихов, пьес. Не потому, что их не интересуют психологические, моральные и социальные проблемы. С социальными проблемами ученые, безусловно, соприкасаются чаще многих писателей и художников. В моральном отношении они, в общем, составляют наиболее здоровую группу интеллигенции, потому что в самой науке заложена идея справедливости и почти все ученые самостоятельно вырабатывают свои взгляды по различным вопросам морали и нравственности. Психологией ученые интересуются в такой же мере, как и большинство интеллигентов, хотя иногда мне кажется, что интерес к этой области появляется у них сравнительно поздно. Таким образом, дело, очевидно, не в отсутствии интереса. В значительной мере проблема заключается в том, что литература, связанная с нашей традиционной культурой, представляется ученым "не относящейся к делу". Разумеется, они жестоко ошибаются. Из-за этого страдает их образное мышление. Они обкрадывают самих себя» .
Транскрипт
1 Чарльз Сноу Две культуры и научная революция Очень часто - не фигурально, а буквально - я проводил дневные часы с учеными, а вечера - со своими литературными друзьями. Само собой разумеется, что у меня были близкие друзья как среди ученых, так и среди писателей. Благодаря тому, что я тесно соприкасался с теми и другими, и, наверное, еще в большей степени благодаря тому, что все время переходил от одних к другим, меня начала занимать та проблема, которую я назвал для самого себя "две культуры" еще до того, как попытался изложить ее на бумаге. Это название возникло из ощущения, что я постоянно соприкасаюсь с двумя разными группами, вполне сравнимыми по интеллекту, принадлежащими к одной и той же расе, не слишком различающимися по социальному происхождению, располагающими примерно одинаковыми средствами к существованию и в то же время почти потерявшими возможность общаться друг с другом, живущими настолько разными интересами, в такой непохожей психологической и моральной атмосфере, что, кажется, легче пересечь океан, чем проделать путь от Берлингтон-Хауса или Южного Кенсингтона до Челси 1. Это в самом деле сложнее, так как, преодолев несколько тысяч миль водных просторов Атлантики, вы попадете в Гринвич-Виллидж, где говорят на том же языке, что и в Челси; но Гринвич-Виллидж и Челси до такой степени не понимают МТИ 2, что можно подумать, будто ученые не владеют ни одним языком, кроме тибетского. Ибо это проблема не только английская. Некоторые особенности английской системы образования и общественной жизни делают ее в Англии особенно острой, некоторые черты социального уклада частично ее сглаживают, но в том или ином виде она существует для всего западного мира. Высказав эту мысль, я хочу сразу же предупредить, что имею в виду нечто вполне серьезное, а не забавный анекдот про то, как один из замечательных оксфордских профессоров, человек живой и общительный, присутствовал на обеде в Кембридже. Когда я слышал эту историю, в качестве главного действующего лица фигурировал А.Л. Смит, и относилась она, кажется, к 1890 году. Обед проходил, по всей вероятности, в колледже Сен- Джонсон или в Тринити-колледже. Смит сидел справа от ректора или, может быть, заместителя ректора. Он был человеком, любившим поговорить. Правда, на этот раз выражение лиц его сотрапезников не слишком располагало к многоречию. Он попробовал завязать обычную для оксфордцев непринужденную беседу со своим визави. В ответ послышалось невнятное мычание. Он попытался втянуть в разговор соседа справа - и вновь услышал такое же мычание. К его великому изумлению, эти два человека переглянулись, и один из них спросил: "Вы не знаете, о чем он говорит?" - "Не имею ни малейшего представления", - ответил другой. Этого не мог выдержать даже Смит. К счастью, ректор, выполняя свои обязанности миротворца, тут же вернул ему хорошее расположение духа. "О, да ведь они математики! - сказал он. - Мы никогда с ними не разговариваем..." Но я имею в виду не этот анекдот, а нечто совершенно серьезное. Мне кажется, что духовный мир западной интеллигенции все явственнее поляризуется, все явственнее раскалывается на две противоположные части. Говоря о духовном мире, я в значительной мере включаю в него и нашу практическую деятельность, так как отношусь к тем, кто 1 Берлингтон Хауз - художественный салон в Лондоне, в котором устраиваются художественные выставки Королевской академии искусств; Челси - район Лондона, в котором живет много молодых художников. В Южном Кенсингтоне находится естественнонаучный отдел Британского музея. 2 МТИ - Массачусетский технологический институт, находится в США в городе Кембридже.
2 убежден, что, по существу, эти стороны жизни нераздельны. А сейчас о двух противоположных частях. На одном полюсе - художественная интеллигенция, которая случайно, пользуясь тем, что никто этого вовремя не заметил, стала называть себя просто интеллигенцией, как будто никакой другой интеллигенции вообще не существует. Вспоминаю, как однажды в тридцатые годы Харди 3 с удивлением сказал мне: "Вы заметили, как теперь стали употреблять слова "интеллигентные люди"? Их значение так изменилось, что Резерфорд, Эддингтон, Дирак, Адриан 4 и я - все мы уже, кажется, не подходим под это новое определение! Мне это представляется довольно странным, а вам?". Итак, на одном полюсе - художественная интеллигенция, на другом - ученые, и как наиболее яркие представители этой группы - физики. Их разделяет стена непонимания, а иногда - особенно среди молодежи - даже антипатии и вражды. Но главное, конечно, непонимание. У обеих групп странное, извращенное представление друг о друге. Они настолько по-разному относятся к одним и тем же вещам, что не могут найти общего языка даже в плане эмоций. Те, кто не имеет отношения к науке, обычно считают ученых нахальными хвастунами. Они слышат, как мистер Т.С. Элиот 5 - вряд ли можно найти более выразительную фигуру для иллюстрации этой мысли - рассказывает о своих попытках возродить стихотворную драму и говорит, что хотя не многие разделяют его надежды, он и его единомышленники будут рады, если им удастся подготовить почву для нового Кида или нового Грина 6. Вот та приглушенная манера выражения, которая принята в среде художественной интеллигенции; таков сдержанный голос их культуры. И вдруг до них долетает несравненно более громкий голос другой типичнейшей фигуры. "Это героическая эпоха науки! - провозглашает Резерфорд. - Настал елизаветинский век!" Многие из нас неоднократно слышали подобные заявления и не так мало других, по сравнению с которыми только что приведенные звучат весьма скромно, и никто из нас не сомневался, кого именно Резерфорд прочил на роль Шекспира. Но в отличие от нас писатели и художники не в состоянии понять, что Резерфорд абсолютно прав; тут бессильны и их воображение, и их разум. Сравните слова, менее всего похожие на научное пророчество: "Последние звуки, которые услышит мир перед своим концом, будут не грохотом, а стоном" 7. Сравните их со знаменитой остротой Резерфорда. "Счастливец Резерфорд, всегда вы на волне!" - сказали ему однажды. "Это правда, - ответил он, - но разве не я создаю волны?". Среди художественной интеллигенции сложилось твердое мнение, что ученые не представляют себе реальной жизни и поэтому им свойствен поверхностный оптимизм. Ученые со своей стороны считают, что художественная интеллигенция лишена дара провидения, что она проявляет странное равнодушие к участи человечества, что ей чуждо все, имеющее отношение к разуму, что она пытается ограничить искусство и мышление только сегодняшними заботами и так далее. Любой человек, обладающий самым скромным опытом прокурора, мог бы дополнить этот список множеством других невысказанных обвинений. Некоторые из них не лишены оснований, и это в равной степени относится к обеим группам интеллигенции. Но все эти пререкания бесплодны. Большинство обвинений родилось из искаженного 3 Харди, Годфри Харолд () - английский математик, известный своими работами по теории чисел, теории функций и математическому анализу, почётный член РАН. 4 Э. Резерфорд () и П.А. Дирак () - английские физики; А.С. Эддингтон () - английский астрофизик; Э.Д. Адриан () - физиолог. 5 Т.С. Элиот () - английский поэт и критик. 6 Т. Кид () - один из наиболее известных драматургов XVI века; Р. Грин () - английский поэт, драматург и романист. 7 Строки из поэмы Т.С. Элиота "The Hollow Men", 1925.
3 понимания действительности, всегда таящего много опасностей. Поэтому сейчас я хотел бы затронуть лишь два наиболее серьезных из взаимных упреков, по одному с каждой стороны. Прежде всего о свойственном ученым "поверхностном оптимизме". Это обвинение выдвигается так часто, что оно стало уже общим местом. Его поддерживают даже наиболее проницательные писатели и художники. Оно возникло из-за того, что личный жизненный опыт каждого из нас принимается за общественный, а условия существования отдельного индивида воспринимаются как общий закон. Большинство ученых, которых я хорошо знаю, так же, как и большинство моих друзей-неученых, прекрасно понимают, что участь каждого из нас трагична. Мы все одиноки. Любовь, сильные привязанности, творческие порывы иногда позволяют нам забыть об одиночестве, но эти триумфы - лишь светлые оазисы, созданные нашими собственными руками, конец же пути всегда обрывается во мраке: каждый встречает смерть один на один. Некоторые из знакомых мне ученых находят утешение в религии. Может быть, они ощущают трагизм жизни не так остро. Я не знаю. Но большинство людей, наделенных глубокими чувствами, как бы жизнерадостны и счастливы они ни были - самые жизнерадостные и счастливые еще в большей степени, чем другие, - воспринимают эту трагедию как одно из неотъемлемых условий жизни. Это в равной степени относится и к хорошо знакомым мне людям науки, и ко всем людям вообще. Но почти все ученые - и тут появляется луч надежды - не видят оснований считать существование человечества трагичным только потому, что жизнь каждого отдельного индивида кончается смертью. Да, мы одиноки, и каждый встречает смерть один на один. Ну и что же? Такова наша судьба, и изменить ее мы не в силах. Но наша жизнь зависит от множества обстоятельств, не имеющих отношения к судьбе, и мы должны им противостоять, если только хотим оставаться людьми. Большинство представителей человеческой расы страдают от голода и умирают преждевременно. Таковы социальные условия жизни. Когда человек сталкивается с проблемой одиночества, он иногда попадает в некую моральную западню: с удовлетворением погружается в свою личную трагедию и перестает беспокоиться о тех, кто не может утолить голод. Ученые обычно попадают в эту западню реже других. Им свойственно нетерпеливое стремление найти какой-то выход, и обычно они верят, что это возможно, до тех пор, пока не убедятся в обратном. В этом заключается их подлинный оптимизм - тот оптимизм, в котором мы все чрезвычайно нуждаемся. Та же воля к добру, то же упорное стремление бороться рядом со своими братьями по крови, естественно, заставляют ученых с презрением относиться к интеллигенции, занимающей иные общественные позиции. Тем более, что в некоторых случаях эти позиции действительно заслуживают презрения, хотя такое положение обычно бывает временным, и потому оно не столь характерно. < > Цифра два - опасная цифра. Попытки разделить что бы то ни было на две части, естественно, должны внушать самые серьезные опасения. Одно время я думал внести какие-то добавления, но потом отказался от этой мысли. Я хотел найти нечто большее, чем выразительная метафора, но значительно меньшее, чем точная схема культурной жизни. Для этих целей понятие "две культуры" подходит как нельзя лучше; любые дальнейшие уточнения принесли бы больше вреда, чем пользы.
4 На одном полюсе - культура, созданная наукой. Она действительно существует как определенная культура не только в интеллектуальном, но и в антропологическом смысле. Это значит, что те, кто к ней причастен, не нуждаются в том, чтобы полностью понимать друг друга, что и случается довольно часто. Биологи, например, сплошь и рядом не имеют ни малейшего представления о современной физике. Но биологов и физиков объединяет общее отношение к миру; у них одинаковый стиль и одинаковые нормы поведения, аналогичные подходы к проблемам и родственные исходные позиции. Эта общность удивительно широка и глубока. Она прокладывает себе путь наперекор всем другим внутренним связям: религиозным, политическим, классовым. Я думаю, что при статистической проверке среди ученых окажется несколько больше неверующих, чем среди остальных групп интеллигенции, а в младшем поколении их, по-видимому, становится еще больше, хотя и верующих ученых тоже не так мало. Та же статистика показывает, что большинство научных работников придерживаются в политике левых взглядов, и число их среди молодежи, очевидно, возрастает, хотя опятьтаки есть немало и ученых-консерваторов. Среди ученых Англии и, наверное, США людей из бедных семей значительно больше, чем среди других групп интеллигенции. Однако ни одно из этих обстоятельств не оказывает особенно серьезного влияния на общий строй мышления ученых и на их поведение. По характеру работы и по общему складу духовной жизни они гораздо ближе друг к другу, чем к другим интеллигентам, придерживающимся тех же религиозных и политических взглядов или вышедшим из той же среды. Если бы я рискнул перейти на стенографический стиль, я сказал бы, что всех их объединяет будущее, которое они несут в своей крови. Даже не думая о будущем, они одинаково чувствуют перед ним свою ответственность. Это и есть то, что называется общей культурой. На другом полюсе отношение к жизни гораздо более разнообразно. Совершенно очевидно, что, если кто-нибудь захочет совершить путешествие в мир интеллигенции, проделав путь от физиков к писателям, он встретит множество различных мнений и чувств. Но я думаю, что полюс абсолютного непонимания науки не может не влиять на всю сферу своего притяжения. Абсолютное непонимание, распространенное гораздо шире, чем мы думаем - в силу привычки мы просто этого не замечаем, - придает привкус ненаучности всей "традиционной" культуре, и часто - чаще, чем мы предполагаем, - эта ненаучность едва не переходит на грань антинаучности. Устремления одного полюса порождают на другом своих антиподов. Если ученые несут будущее в своей крови, то представители "традиционной" культуры стремятся к тому, чтобы будущего вообще не существовало. Западный мир руководствуется традиционной культурой, и вторжение науки лишь в ничтожной степени поколебало ее господство. Поляризация культуры - очевидная потеря для всех нас. Для нас как народа и для нашего современного общества. Это практическая, моральная и творческая потеря, и я повторяю: напрасно было бы полагать, что эти три момента можно полностью отделить один от другого. Тем не менее сейчас я хочу остановиться на моральных потерях. Ученые и художественная интеллигенция до такой степени перестали понимать друг друга, что это стало навязшим в зубах анекдотом. В Англии около 50 тысяч научных работников в области точных и естественных наук и примерно 80 тысяч специалистов (главным образом инженеров), занятых приложениями науки. Во время второй мировой войны и в послевоенные годы моим коллегам и мне удалось опросить тысяч тех и других, то есть примерно 25%. Это число достаточно велико, чтобы можно было установить какую-то закономерность, хотя большинству тех, с кем мы беседовали, было меньше сорока лет. Мы составили некоторое представление о том, что они читают и о чем думают. Признаюсь, что при всей своей любви и уважении к этим людям я был несколько подавлен.
5 Мы совершенно не подозревали, что их связи с традиционной культурой настолько ослабли, что свелись к вежливым кивкам. Само собой разумеется, что выдающиеся ученые, обладавшие недюжинной энергией и интересовавшиеся самыми разнообразными вещами, были всегда; есть они и сейчас, и многие из них читали все, о чем обычно говорят в литературных кругах. Но это исключение. Большинство же, когда мы пытались выяснить, какие книги они читали, скромно признавались: "Видите ли, я пробовал читать Диккенса..." И это говорилось таким тоном, будто речь шла о Райнере Марии Рильке, то есть о писателе чрезвычайно сложном, доступном пониманию лишь горсточки посвященных и вряд ли заслуживающем настоящего одобрения. Они в самом деле относятся к Диккенсу, как к Рильке. Одним из самых удивительных результатов этого опроса явилось, наверное, открытие, что творчество Диккенса стало образцом непонятной литературы. Читая Диккенса или любого другого ценимого нами писателя, они лишь вежливо кивают традиционной культуре. Живут же они своей полнокровной, вполне определенной и постоянно развивающейся культурой. Ее отличает множество теоретических положений, обычно гораздо более четких и почти всегда значительно лучше обоснованных, чем теоретические положения писателей. И даже тогда, когда ученые не задумываясь употребляют слова не так, как писатели, они всегда вкладывают в них один и тот же смысл; если, например, они употребляют слова "субъектный", "объектный", "философия", "прогрессивный", то великолепно знают, что именно имеют в виду, хотя часто подразумевают при этом совсем не то, что все остальные. Не будем забывать, что мы говорим о высокоинтеллигентных людях. Во многих отношениях их строгая культура заслуживает всяческого восхищения. Искусство занимает в этой культуре весьма скромное место, правда за одним, но весьма важным исключением - музыки. Обмен мнениями, напряженные дискуссии, долгоиграющие пластинки, цветная фотография: кое-что для ушей, немного для глаз. Очень мало книг, хотя, наверное, не многие зашли так далеко, как некий джентльмен, стоящий, очевидно, на более низкой ступеньке научной лестницы, чем те ученые, о которых я только что говорил. Этот джентльмен на вопрос, какие книги он читает, с непоколебимой самоуверенностью ответил: "Книги? Я предпочитаю использовать их в качестве инструментов". Трудно понять, в качестве каких же инструментов он их "использует". Может быть, в качестве молотка? Или лопаты? Так вот, книг тем не менее очень мало. И почти ничего из тех книг, которые составляют повседневную пищу писателей: почти никаких психологических и исторических романов, стихов, пьес. Не потому, что их не интересуют психологические, моральные и социальные проблемы. С социальными проблемами ученые, безусловно, соприкасаются чаще многих писателей и художников. В моральном отношении они, в общем, составляют наиболее здоровую группу интеллигенции, потому что в самой науке заложена идея справедливости и почти все ученые самостоятельно вырабатывают свои взгляды по различным вопросам морали и нравственности. Психологией ученые интересуются в такой же мере, как и большинство интеллигентов, хотя иногда мне кажется, что интерес к этой области появляется у них сравнительно поздно. Таким образом, дело, очевидно, не в отсутствии интереса. В значительной мере проблема заключается в том, что литература, связанная с нашей традиционной культурой, представляется ученым "не относящейся к делу". Разумеется, они жестоко ошибаются. Из-за этого страдает их образное мышление. Они обкрадывают самих себя.
6 А другая сторона? Она тоже многое теряет. И может быть, ее потери даже серьезнее, потому что ее представители более тщеславны. Они все еще претендуют на то, что традиционная культура - это и есть вся культура, как будто существующее положение вещей на самом деле не существует. Как будто попытка разобраться в сложившейся ситуации не представляет для нее никакого интереса ни сама по себе, ни с точки зрения последствий, к которым эта ситуация может привести. Как будто современная научная модель физического мира по своей интеллектуальной глубине, сложности и гармоничности не является наиболее прекрасным и удивительным творением, созданным коллективными усилиями человеческого разума! А ведь бόльшая часть художественной интеллигенции не имеет об этом творении ни малейшего представления. И не может иметь, даже если бы захотела. Создается впечатление, что в результате огромного числа последовательно проводимых экспериментов отсеялась целая группа людей, не воспринимающих какие-то определенные звуки. Разница только в том, что эта частичная глухота не врожденный дефект, а результат обучения - или, вернее, отсутствия обучения. Что же касается самих полуглухих, то они просто не понимают, чего они лишены. Узнав о каком-нибудь открытии, сделанном людьми, никогда не читавшими великих произведений английской литературы, они сочувственно посмеиваются. Для них эти люди просто невежественные специалисты, которых они сбрасывают со счета. Между тем их собственное невежество и узость их специализации ничуть не менее страшны. Множество раз мне приходилось бывать в обществе людей, которые по нормам традиционной культуры считаются высокообразованными. Обычно они с большим пылом возмущаются литературной безграмотностью ученых. Как-то раз я не выдержал и спросил, кто из них может объяснить, что такое второе начало термодинамики. Ответом было молчание или отказ. А ведь задать этот вопрос ученому значит примерно то же самое, что спросить у писателя: "Читали ли вы Шекспира?" Сейчас я убежден, что если бы я поинтересовался более простыми вещами, например тем, что такое масса или что такое ускорение, то есть опустился бы до той ступени научной трудности, на которой в мире художественной интеллигенции спрашивают: "Умеете ли вы читать?", то не более чем один из десяти высококультурных людей понял бы, что мы говорим с ним на одном и том же языке. Получается так, что величественное здание современной физики устремляется ввысь, а для большей части проницательных людей западного мира оно так же непостижимо, как и для их предков эпохи неолита. Теперь я хотел бы задать еще один вопрос из числа тех, которые мои друзьяписатели и художники считают наиболее бестактными. В Кембриджском университете профессора точных, естественных и гуманитарных наук ежедневно встречаются друг с другом во время обеда. Примерно два года назад 8 было сделано одно из самых замечательных открытий за всю историю науки. Я имею в виду не спутник. Запуск спутника - событие, заслуживающее восхищения по совсем иным причинам: оно явилось доказательством торжества организованности и безграничности возможностей применения современной науки. Но сейчас я говорю об открытии Янга и Ли. Выполненное ими исследование отличается удивительным совершенством и оригинальностью, однако результаты его настолько устрашающи, что невольно забываешь о красоте мышления. Их труд заставил нас заново пересмотреть некоторые основополагающие закономерности физического мира. Интуиция, здравый смысл - все перевернулось с ног на голову. Полученный ими результат обычно формулируется как не сохранение четности 9. Если бы 8 То есть около 1957 г. 9 До 1956 г. считалось самоочевидным, что физические процессы не могут измениться, если мы заменим окружающий мир его зеркальным отражением. Однако Ли и Янг предположили, что при некоторых взаимодействиях элементарных частиц дело обстоит иначе, то есть что в микромире существует
7 между двумя культурами существовали живые связи, об этом открытии говорили бы в Кембридже за каждым профессорским столом. А на самом деле - говорили? Меня не было тогда в Кембридже, а именно этот вопрос мне хотелось задать. Создается впечатление, что для объединения двух культур вообще нет почвы. Я не собираюсь тратить время на разговоры о том, как это печально. Тем более что на самом деле это не только печально, но и трагично. < > Для нашей умственной и творческой деятельности это значит, что богатейшие возможности пропадают впустую. Столкновение двух дисциплин, двух систем, двух культур, двух галактик - если не бояться зайти так далеко! - не может не высечь творческой искры. Как видно из истории интеллектуального развития человечества, такие искры действительно всегда вспыхивали там, где разрывались привычные связи. Сейчас мы по-прежнему возлагаем наши творческие надежды прежде всего на эти вспышки. Но сегодня наши надежды повисли, к сожалению, в воздухе, потому что люди, принадлежащие к двум культурам, утратили способность общаться друг с другом. Поистине, удивительно, насколько поверхностным оказалось влияние науки XX века на современное искусство. От случая к случаю попадаются стихи, в которых поэты сознательно используют научные термины, причем обычно неправильно. Одно время в поэзии вошло в моду слово "рефракция", получившее совершенно фантастический смысл. Потом появилось выражение "поляризованный свет"; из контекста, в котором оно употребляется, можно понять, что писатели считают, будто это какой-то особенно красивый свет. Совершенно ясно, что в таком виде наука вряд ли может принести искусству какуюнибудь пользу. Она должна быть воспринята искусством как неотъемлемая часть всего нашего интеллектуального опыта и использоваться так же непринужденно, как всякий другой материал. Я уже говорил, что размежевание культуры не специфически английское явление - оно характерно для всего западного мира. Но дело, очевидно, в том, что в Англии оно проявилось особенно резко. Произошло это по двум причинам. Во-первых, из-за фанатической веры в специализацию обучения, которая зашла в Англии гораздо дальше, чем в любой другой стране на Западе или на Востоке. Во-вторых, из-за характерной для Англии тенденции создавать неизменные формы для всех проявлений социальной жизни. По мере сглаживания экономического неравенства эта тенденция не ослабевает, а усиливается, что особенно заметно на английской системе образования. Практически это означает, что, как только происходит нечто подобное разделению культуры, все общественные силы способствуют не устранению этого явления, а его закреплению. Раскол культуры стал очевидной и тревожной реальностью еще 60 лет назад. Но в те времена премьер-министр Англии лорд Солсбери имел научную лабораторию в Хэтфилде, а Артур Бальфур 10 интересовался естественными науками гораздо серьезнее, чем просто любитель. Джон Андерсен 11, прежде чем начать государственную службу, занимался в Лейпциге исследованиями в области неорганической химии, интересуясь одновременно таким количеством научных дисциплин, что сейчас это кажется просто немыслимым. принципиальное отличие между "левым" и "правым". В дальнейшем специальные опыты показали, что они правы 10 А. Дж. Бальфур () - английский философ и крупный государственный деятель. 11 Дж. Андерсен () - политический деятель Англии.
8 Ничего похожего не встретишь в высших сферах Англии в наши дни; теперь даже сама возможность такого переплетения интересов представляется абсолютно фантастичной. Попытки перебросить мост между учеными и не учеными Англии выглядят сейчас - особенно среди молодежи - значительно безнадежнее, чем тридцать лет назад. В то время две культуры, уже давно утратившие возможность общения, еще обменивались вежливыми улыбками, несмотря на разделявшую их пропасть. Теперь вежливость позабыта, и мы обмениваемся только колкостями. Мало того, молодые ученые ощущают свою причастность к расцвету, который переживает сейчас наука, а художественная интеллигенция страдает от того, что литература и искусство утратили свое былое значение. Начинающие ученые к тому же еще уверены - позволим себе эту грубость, - что получат хорошо оплачиваемую работу, даже не имея особенно высокой квалификации, в то время как их товарищи, специализирующиеся в области английской литературы или истории, будут счастливы получить 50% их зарплаты. Ни один молодой ученый с самыми скромными способностями не страдает от сознания собственной ненужности или от бессмысленности своей работы, как герой "Счастливчика Джима" 12, а ведь, в сущности, "сердитость" Эмиса и его единомышленников в какой-то степени вызвана тем, что художественная интеллигенция лишена возможности полностью использовать свои силы. Сноу Ч.П. Две культуры. // Сборник публицистических работ. М., С "Счастливчик Джим" - роман английского писателя К. Эмиса, опубликованный на русском языке в журнале "Иностранная литература" (10-12, 1958).
Вопросы, которые стоит себе задать. На них нет правильных или не правильных ответов. Ведь иногда правильно заданный вопрос уже и есть ответ. Здравствуй, Дорогой Друг! Меня зовут Вова Кожурин. Моя жизненная
1 1 ÿíâàðÿ Íîâûé ãîä Чего вы ожидаете от наступившего года? Какие цели ставите себе, какие у вас есть планы и желания? Чего ждёте от магического ежедневника? 8 Моя цель помочь вам приобрести главный магический
1. Две культуры http://vivovoco.rsl.ru/vv/papers/ecce/snow/twocult.htm ДВЕ КУЛЬТУРЫ И НАУЧНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ Чарлз Перси Сноу Воспроизведено по изданию: Ч.П. Сноу, Портреты и размышления, М., Изд. "Прогресс",
Я учитель Профессию учителя считаю самой главной на свете. Учительство это искусство, труд не менее творческий, чем труд писателя и композитора, но более тяжелый и ответственный. Учитель обращается к душе
ОПЛАКИВАЯ ПОТЕРЮ КОГО-ТО ОЧЕНЬ ЗНАЧИМОГО Разработала Marge Heegaard Перевела Татьяна Панюшева Для заполнения детьми Имя Возраст Ты пережил очень трудное время. И то, что у тебя путаются мысли и чувства
ВЕСТНИК ТОМСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 2009 Философия. Социология. Политология 4(8) ЯВЛЯЕТСЯ ЛИ СУЩЕСТВОВАНИЕ ПРЕДИКАТОМ? 1 Мне не совсем ясно значение данного вопроса. М-р Нил говорит, что существование
Здравствуйте дорогие друзья и читатели сайта www.raduga-schastie.ru. Так сложилось, что в нашей жизни умение общаться, играет очень важную роль. И этот навык гораздо важнее, чем отличные оценки по математике
Я бы хотела спросить - почему так сложно встретить мужчину раз и навсегда? Почему у одних это получается легко, а другие годами ждут впустую? И если я встречаю человека, как знать, что это он??? Нэля Нэля,
Мне прислали любопытный видеодокумент «Сила Ума». На первый взгляд очень глубокомысленные рассуждения. Но на деле этот последователь буддизма излагает истины своей религии. «Ощущение себя, который просыпается
ВАША ЦЕЛЬ ПОКАЗАТЬ ВОЗМОЖНОСТИ РОСТА И УКАЗАТЬ НУЖНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ (Разные пути Вознесения в Свет) 21.03.2019 г. 1 / 8 Я: Можем ли мы как-то влиять на политическую обстановку в мире? Люцифер: Можно осознанно
Любовь и преданность Самоуважение Om Shri Paramatmane Namaha Любовь и преданность Вопрос: В детстве я воспитывалась в католической религии. В этом подходе существует страх Бога и страх греха т.е. то, чему
Выявление ограничивающих убеждений Отрывок из новой книги Джека Макани «Self-коучинг: 7 шагов к счастливой и осознанной жизни» Шаманы верят: «Мир это то, что мы о нем думаем». Если это так, то следовать
Что такое культура? Память культуры. основа Тимофеева Тамара Васильевна, учитель русского языка и литературы ГБОУ школы 627 Невского района Санкт-Петербурга «Культура человечества движется вперёд не путём
ГЛАВА А 9 О несовершенстве Дела идут лучше. Этому не будет конца. Дела идут все лучше и лучше, и в этом есть своя красота. Жизнь вечна и ничего не знает о смерти. Когда что-то совершенно, закончено оно
Модель трех разумов, или почему некоторые ваши важные цели не реализуются? Джек Макани Если посмотреть на древние традиции, которые существуют в разных культурах, то практически во всех традициях мы можем
Урок 1 Вы начали новую жизнь Что происходит, когда гусеница становится бабочкой? Как семя превращается в могучее дерево? Управляют этими процессами и производят эти изумительные перемены законы природы.
А. Эйнштейн ПРИРОДА РЕАЛЬНОСТИ Беседа с Рабиндранатом Тагором Эйнштейн А. Собрание научных трудов. М., 1967. Т. 4. С. 130 133 Эйнштейн.
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН ГБПОУ РД «ДАГЕСТАНСКИЙ БАЗОВЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ» МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ На тему: «ОСОБЕННОСТИ АДАПТАЦИОННОГО ПЕРИОДА В НОВОМ КОЛЛЕКТИВЕ» Составители Юсупова
Сочинение пишется по определенному плану: 1. Введение 2. Постановка проблемы 3. Комментарий к проблеме 4. Позиция автора 5. Ваша позиция 6. Литературный аргумент 7. Любой другой аргумент 8. Заключение
Психология отношений Психология о отношениях Проще всего объяснить этот парадоксальный факт тем, что не перевелись еще невоспитанные люди, которым с детства не привили хорошие манеры. Но дело не только
Ноябрь 1972 1 2 ноября 1972 (Беседа с Суджатой) Как Сатпрем? Я думаю, хорошо, милая Мать. А ты, как у тебя дела? А я хотела спросить: как идут дела у милой Матери? Мать не «идёт»! Нет больше личности,
А Н Т У А Н Д Е С Е Н Т - Э К З Ю П Е Р И М А Л Е Н Ь К И Й П Р И Н Ц ЛЕОНУ ВЕРТУ Прошу детей простить меня за то, что я посвятил эту книжку взрослому. СКАЖУ В ОПРАВДАНИЕ: ЭТОТ ВЗРОСЛЫЙ МОЙ САМЫЙ ЛУЧШИЙ
Статью подготовили: воспитатель I квалификационной категории: Евдокимова Л.В. педагог-психолог: Галицкая Н.В. «Положи своё сердце у чтения» Эти строки были написаны в египетском папирусе почти 6 тысяч
СХЕМА ОЦЕНИВАНИЯ ТЕСТА 1 Реальный профиль Задание А (40 баллов) Nr Задание Вариант ответа Критерии оценивания Общее количеств о баллов 1. Замените словосочетание «художественный смысл» другим, близким
Михаил Булгаков писатель с необычной судьбой: основная часть его литературного наследия стала известна читающему миру только четверть века спустя после его смерти. При этом последний его роман «Мастер
Консультация для родителей Как рассматривать детские рисунки Всем известно, что дети любят рисовать. Рисуют все дома, цветы, машины, птиц, животных, своих близких. Рисунки эти очень разные. Мир детей отличается
Добрый день, уважаемые коллеги! Мне очень приятно выступать в этом зале, быть вместе с вами в Петербурге на первой Педагогической ассамблее, в рамках которой мы открываем в этом году все мероприятия, связанные
«ЛЮБОВЬ - ЭТО НЕ ЭМОЦИ щия, ЭТО ДЕЙСТВИЕ» Инт ервью с в и ц е-п р ези д ен т о м по международным программам Казахстанско- Американского Свободного Университета Дэниелом Бэлластом Дэниел Бэлласт - вице-президент
ФОРМИРОВАНИЕ СТРЕМЛЕНИЯ К РАЗВИТИЮ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ СПОСОБНОСТЕЙ И ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РАЗЛИЧНЫХ ВИДАХ ИСКУССТВА И ТРУДА, ОБОГАЩЕНИЕ ЭСТЕТИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ Т. В. Солодунова
Колетт Тач: Брачный союз Я пыталась найти краткий путь, чтобы поговорить об этой интимной теме, но сдалась! Хотя эта статья длинная, я вдохновляю вас потратить на неё время. Я молюсь, чтобы это стало вызовом
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ ИСКУССТВА Шкала «Красота - Уродство» У любой вещи в этом мире есть предназначение. Например, предназначением авторучки является оставлять след пасты на поверхности бумаги, а предназначением
Расцерковление мы обсуждаем давно. Наступает однажды такой период в жизни, когда церковная жизнь теряет острый смысл: вместо молитвы краткое вычитывание правила, исповедь из недели в неделю один и тот
Равенство и справедливость есть ваша «национальная идея» 04.02.19. Дорогая Владычица Мария, я прошу тебя рассказать о твоей деятельности на планете. Чем занимался старый Владыка и что изменилось со сменой
Знакомо ли тебе чувство раздражения и злости, когда муж требует не общаться с подругой, подруга бомбардирует сообщениями одновременно скайп, аську и все существующие социальные сети, желая поведать тебе
Дорогие ребята! В этом году вы начинаете изучать историю нашей многонациональной Родины России. Учебник, который вы держите в руках, охватывает период с древнейших времён до конца XVI века. В нём рассказано
23 АРАМЕЙСКОЕ РЕШЕНИЕ - Ричард, я чувствую, что Таблица управления реальностью это один из лучших инструментов, которые мы разработали для изменения наших конфликтных реальностей. Она показывает по шагам,
1 Уважаемые неравнодушные, заинтересованные, умные взрослые! Это ещё одна книга из серии «Психология для мамы», которая поможет взрослым сформировать самооценку малыша. Что это такое? Самооценка есть не
Степа, одноклассник Вовы Вова, волонтер, одноклассник Степы Знакомьтесь, это Вова мой одноклассник. Хочу вам рассказать про него, потому что Вова - волонтер молодежного клуба. Все наши одноклассники прислушиваются
Чарлз Перси Сноу
ДВЕ КУЛЬТУРЫ
И
НАУЧНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ
Воспроизведено по изданию:
Ч.П. Сноу, Портреты и размышления, М., Изд. "Прогресс", 1985 г., стр. 195-226
1. Две культуры
Примерно три года назад я коснулся в печати одной проблемы, которая уже давно вызывала у меня чувство беспокойства*. Я столкнулся с этой проблемой из-за некоторых особенностей своей биографии. Никаких иных причин, заставивших меня размышлять именно в этом направлении, не существовало - некое стечение обстоятельств, и только. Любой другой человек, сложись его жизнь так же, как моя, увидел бы примерно то же, что и я, и, наверное, пришел бы почти к тем же выводам.
Все дело в необычности моего жизненного опыта. По образованию я ученый, по призванию - писатель. Вот и все. Кроме того, мне, если хотите, повезло: я родился в бедной семье. Но я не собираюсь рассказывать сейчас историю своей жизни. Мне важно сообщить только одно: я попал в Кембридж и получил возможность заниматься исследовательской работой в то время, когда Кембриджский университет переживал пору научного расцвета. Мне выпало редкое счастье наблюдать вблизи один из наиболее удивительных творческих взлетов, которые знала история физики. А превратности военного времени - включая встречу с У.Л. Брэггом в вокзальном буфете Кеттеринга пронизывающе холодным утром 1939 года, встречу, в значительной мере определившую мою деловую жизнь, - помогли мне, даже, более того, вынудили, сохранить эту близость до сих пор. Так случилось, что в течение тридцати лет я поддерживал контакт с учеными не только из любопытства, но и потому, что это входило в мои повседневные обязанности. И в течение этих же тридцати лет я пытался представить себе общие контуры еще не написанных книг, которые со временем сделали меня писателем.
* "The Two Cultures". - "New Statesman", 6 октября 1956 года. - Здесь и далее синим цветом - пpимечания автора.
Очень часто - не фигурально, а буквально - я проводил дневные часы с учеными, а вечера - со своими литературными друзьями. Само собой разумеется, что у меня были близкие друзья как среди ученых, так и среди писателей. Благодаря тому, что я тесно соприкасался с теми и другими, и, наверное, еще в большей степени благодаря тому, что все время переходил от одних к другим, меня начала занимать та проблема, которую я назвал для самого себя "две культуры" еще до того, как попытался изложить ее на бумаге. Это название возникло из ощущения, что я постоянно соприкасаюсь с двумя разными группами, вполне сравнимыми по интеллекту, принадлежащими к одной и той же расе, не слишком различающимися по социальному происхождению, располагающими примерно одинаковыми средствами к существованию и в то же время почти потерявшими возможность общаться друг с другом, живущими настолько разными интересами, в такой непохожей психологической и моральной атмосфере, что, кажется, легче пересечь океан, чем проделать путь от Берлингтон-Хауса или Южного Кенсингтона до Челси.
Это в самом деле сложнее, так как, преодолев несколько тысяч миль водных просторов Атлантики, вы попадете в Гринвич-виллидж, где говорят на том же языке, что и в Челси; но Гринвич-Виллидж и Челси до такой степени не понимают МТИ, что можно подумать, будто ученые не владеют ни одним языком, кроме тибетского. Ибо это проблема не только английская. Некоторые особенности английской системы образования и общественной жизни делают ее в Англии особенно острой, некоторые черты социального уклада частично ее сглаживают, но в том или ином виде она существует для всего западного мира.
МТИ - Массачусетский технологический институт, находится в США в городе Кембридже
Высказав эту мысль, я хочу сразу же предупредить, что имею в виду нечто вполне серьезное, а не забавный анекдот про то, как один из замечательных оксфордских профессоров, человек живой и общительный, присутствовал на обеде в Кембридже. Когда я слышал эту историю, в качестве главного действующего лица фигурировал А.Л. Смит, и относилась она, кажется, к 1890 году. Обед проходил, по всей вероятности, в колледже Сен-Джонсон или в Тринити-колледже. Смит сидел справа от ректора или, может быть, заместителя ректора. Он был человеком, любившим поговорить. Правда, на этот раз выражение лиц его сотрапезников не слишком располагало к многоречию. Он попробовал завязать обычную для оксфордцев непринужденную беседу со своим визави. В ответ послышалось невнятное мычание. Он попытался втянуть в разговор соседа справа - и вновь услышал такое же мычание. К его великому изумлению, эти два человека переглянулись, и один из них спросил: "Вы не знаете, о чем он говорит?" - "Не имею ни малейшего представления", -ответил другой. Этого не мог выдержать даже Смит. К счастью, ректор, выполняя свои обязанности миротворца, тут же вернул ему хорошее расположение духа. "О, да ведь они математики! - сказал он. - Мы никогда с ними не разговариваем..."
Но я имею в виду не этот анекдот, а нечто совершенно серьезное. Мне кажется, что духовный мир западной интеллигенции все явственнее поляризуется, все явственнее раскалывается на две противоположные части. Говоря о духовном мире, я в значительной мере включаю в него и нашу практическую деятельность, так как отношусь к тем, кто убежден, что, по существу, эти стороны жизни нераздельны. А сейчас о двух противоположных частях. На одном полюсе - которая случайно, пользуясь тем, что никто этого вовремя не заметил, стала называть себя просто интеллигенцией, как будто никакой другой интеллигенции вообще не существует. Вспоминаю, как однажды в тридцатые годы Харди с удивлением сказал мне: "Вы заметили, как теперь стали употреблять слова "интеллигентные люди"? Их значение так изменилось, что Резерфорд, Эддингтон, Дирак, Эдриан и я - все мы уже, кажется, не подходим под это новое определение! Мне это представляется довольно странным, а вам?" *
* Эта лекция была прочитана в Кембриджском университете, поэтому я мог называть целый ряд имен без всяких разъяснений. Г.Г. Харди (1877-1947) - один из самых выдающихся математиков-теоретиков своего времени - был достопримечательной фигурой в Кембридже и в качестве молодого члена совета одного из колледжей, и по возвращении на кафедру математики в 1931 году.
Итак, на одном полюсе - художественная интеллигенция, на другом - ученые, и как наиболее яркие представители этой группы - физики. Их разделяет стена непонимания, а иногда - особенно среди молодежи - даже антипатии и вражды. Но главное, конечно, непонимание. У обеих групп странное, извращенное представление друг о друге. Они настолько по-разному относятся к одним и тем же вещам, что не могут найти общего языка даже в плане эмоций. Те, кто не имеет отношения к науке, обычно считают ученых нахальными хвастунами. Они слышат, как мистер Т.С. Элиот - вряд ли можно найти более выразительную фигуру для иллюстрации этой мысли - рассказывает о своих попытках возродить стихотворную драму и говорит, что хотя не многие разделяют его надежды, но и его единомышленники будут рады, если им удастся подготовить почву для нового Кида или нового Грина. Вот та приглушенная манера выражения, которая принята в среде художественной интеллигенции; таков сдержанный голос их культуры. И вдруг до них долетает несравненно более громкий голос другой типичнейшей фигуры. "Это героическая эпоха науки! - провозглашает Резерфорд. - Настал елизаветинский век!" Многие из нас неоднократно слышали подобные заявления и не так мало других, по сравнению с которыми только что приведенные звучат весьма скромно, и никто из нас не сомневался, кого именно Резерфорд прочил на роль Шекспира. Но в отличие от нас писатели и художники не в состоянии понять, что Резерфорд абсолютно прав; тут бессильны и их воображение, и их разум.
Сравните слова, менее всего похожие на научное пророчество: "Вот как кончится мир. Не взрыв, но всхлип". Сравните их со знаменитой остротой Резерфорда. "Счастливец Резерфорд, всегда вы на волне!" - сказали ему однажды. "Это правда, - ответил он, - но в конце концов я создал волну, не так ли?"
Среди художественной интеллигенции сложилось твердое мнение, что ученые не представляют себе реальной жизни и поэтому им свойствен поверхностный оптимизм. Ученые со своей стороны считают, что художественная интеллигенция лишена дара провидения, что она проявляет странное равнодушие к участи человечества, что ей чуждо все, имеющее отношение к разуму, что она пытается ограничить искусство и мышление только сегодняшними заботами и так далее.
Любой человек, обладающий самым скромным опытом прокурора, мог бы дополнить этот список множеством других невысказанных обвинений. Некоторые из них не лишены оснований, и это в равной степени относится к обеим группам интеллигенции. Но все эти пререкания бесплодны. Большинство обвинений родилось из искаженного понимания действительности, всегда таящего много опасностей. Поэтому сейчас я хотел бы затронуть лишь два наиболее серьезных из взаимных упреков, по одному с каждой стороны.
Прежде всего о свойственном ученым "поверхностном оптимизме". Это обвинение выдвигается так часто, что оно стало уже общим местом. Его поддерживают даже наиболее проницательные писатели и художники. Оно возникло из-за того, что личный жизненный опыт каждого из нас принимается за общественный, а условия существования отдельного индивида воспринимаются как общий закон. Большинство ученых, которых я хорошо знаю, так же как и большинство моих друзей-неученых, прекрасно понимают, что участь каждого из нас трагична.
Мы все одиноки. Любовь, сильные привязанности, творческие порывы иногда позволяют нам забыть об одиночестве, но эти триумфы - лишь светлые оазисы, созданные нашими собственными руками, конец же пути всегда обрывается во мраке: каждый встречает смерть один на один. Некоторые из знакомых мне ученых находят утешение в религии. Может быть, они ощущают трагизм жизни не так остро. Я не знаю. Но большинство людей, наделенных глубокими чувствами, как бы жизнерадостны и счастливы они ни были - самые жизнерадостные и счастливые еще в большей степени, чем другие, - воспринимают эту трагедию как одно из неотъемлемых условий жизни. Это в равной степени относится и к хорошо знакомым мне людям науки, и ко всем людям вообще.
Но почти все ученые - и тут появляется луч надежды - не видят оснований считать существование человечества трагичным только потому, что жизнь каждого отдельного индивиду кончается смертью. Да, мы одиноки, и каждый встречает смерть один на один. Ну и что же? Такова наша судьба, и изменить ее мы не в силах. Но наша жизнь зависит от множества обстоятельств, не имеющих отношения к судьбе, и мы должны им противостоять, если только хотим оставаться людьми.
Большинство представителей человеческой расы страдают от голода и умирают преждевременно. Таковы социальные условия жизни. Когда человек сталкивается с проблемой одиночества, он иногда попадает в некую моральную западню: с удовлетворением погружается в свою личную трагедию и перестает беспокоиться о тех, кто не может утолить голод.
Ученые обычно попадают в эту западню реже других. Им свойственно нетерпеливое стремление найти какой-то выход, и обычно они верят, что это возможно, до тех пор пока не убедятся в обратном. В этом заключается их подлинный оптимизм - тот оптимизм, в котором мы все чрезвычайно нуждаемся.
Та же воля к добру, то же упорное стремление бороться рядом со своими братьями по крови, естественно, заставляют ученых с презрением относиться к интеллигенции, занимающей иные общественные позиции. Тем более, что в некоторых случаях эти позиции действительно заслуживают презрения, хотя такое положение обычно бывает временным, и потому оно не столь характерно.
Я помню, как меня с пристрастием допрашивал один видный ученый: "Почему большинство писателей придерживаются воззрений, которые наверняка считались бы отсталыми и вышедшими из моды еще во времена Плантагенетов? Разве выдающиеся писатели XX века являются исключением из этого правила? Йитс, Паунд, Льюис - девять из десяти среди тех, кто определял общее звучание литературы в наше время, - разве они не показали себя политическими глупцами, и даже больше - политическими предателями? Разве их творчество не приблизило Освенцим?"
Я думал тогда и думаю сейчас, что правильный ответ состоит не в том, чтобы отрицать очевидное. Бесполезно говорить, что, по утверждению друзей, мнению которых я доверяю, Йитс был человеком исключительного великодушия и к тому же великим поэтом. Бесполезно отрицать факты, которые в основе своей истинны. Честный ответ на этот вопрос состоит в признании, что между некоторыми художественными произведениями начала XX века и самыми чудовищными проявлениями антиобщественных чувств действительно есть какая-то связь и писатели заметили эту связь с опозданием, заслуживающим всяческого порицания *. Это обстоятельство - одна из причин, побудивших некоторых из нас отвернуться от искусства и искать для себя новых путей **.
* Подробнее на этих вопросах я остановился в своей статье "Угроза интеллекту" ("Challenge to the Intellect"), опубликованной в "Times Literary Supplement" 15 августа 1958 года.
** Правильнее было бы сказать, что из-за некоторых художественных особенностей мы почувствовали, что господствующие литературные направления ничем нас не обогащают. Подобное ощущение в значительной мере усилилось, когда мы осознали, что эти литературные направления связаны с такими общественными позициями, которые мы считаем порочными или бессмысленными либо порочно-бессмысленными.
Однако, хотя для целого поколения людей общее звучание литературы определялось прежде всего творчеством писателей типа Йитса и Паунда, теперь дело обстоит если не полностью, то в значительной степени иначе. Литература изменяется гораздо медленнее, чем наука. И поэтому периоды, когда развитие идет по неверному пути, в литературе длиннее. Но, оставаясь добросовестными, ученые не могут судить о писателях только на основании фактов, относящихся к 1914-1950 годам.
Таковы два источника взаимонепонимания между двумя культурами. Должен сказать, раз уж я заговорил о двух культурах, что сам этот термин вызвал ряд нареканий. Большинство моих друзей из мира науки и искусства находят его в какой-то степени удачным. Но люди, связанные с сугубо практической деятельностью, решительно с этим не согласны. Они видят в таком делении чрезмерное упрощение и считают, что если уж прибегать к подобной терминологии, то надо говорить по меньшей мере о трех культурах. Они утверждают, что во многом разделяют взгляды ученых, хотя сами не принадлежат к их числу; современные художественные произведения говорят им так же мало, как и ученым (и, наверное, говорили бы еще меньше, если бы они знали их лучше). Дж. X. Плам, Алан Буллок и некоторые из моих американских друзей-социологов настойчиво возражают против того, чтобы их принуждали считаться помощниками тех, кто создает атмосферу социальной безнадежности, и запирали в одну клетку с людьми, с которыми они не хотели бы быть вместе не только живыми, но и мертвыми.
Я склонен относиться к этим доводам с уважением. Цифра два - опасная цифра. Попытки разделить что бы то ни было на две части, естественно, должны внушать самые серьезные опасения. Одно время я думал внести какие-то добавления, но потом отказался от этой мысли. Я хотел найти нечто большее, чем выразительная метафора, но значительно меньшее, чем точная схема культурной жизни. Для этих целей понятие "две культуры" подходит как нельзя лучше; любые дальнейшие уточнения принесли бы больше вреда, чем пользы.
На одном полюсе - культура, созданная наукой. Она действительно существует как определенная культура не только в интеллектуальном, но и в антропологическом смысле. Это значит, что те, кто к ней причастен, не нуждаются в том, чтобы полностью понимать друг друга, что и случается довольно часто. Биологи, например, сплошь и рядом не имеют ни малейшего представления о современной физике. Но биологов и физиков объединяет общее отношение к миру; у них одинаковый стиль и одинаковые нормы поведения, аналогичные подходы к проблемам и родственные исходные позиции. Эта общность удивительно широка и глубока. Она прокладывает себе путь наперекор всем другим внутренним связям: религиозным, политическим, классовым.
Я думаю, что при статистической проверке среди ученых окажется несколько больше неверующих, чем среди остальных групп интеллигенции, а в младшем поколении их, по-видимому, становится еще больше, хотя и верующих ученых тоже не так мало. Та же статистика показывает, что большинство научных работников придерживаются в политике левых взглядов, и число их среди молодежи, очевидно, возрастает, хотя опять-таки есть немало и ученых-консерваторов. Среди ученых Англии и, наверное, США людей из бедных семей значительно больше, чем среди других групп интеллигенции *. Однако ни одно из этих обстоятельств не оказывает особенно серьезного влияния на общий строй мышления ученых и на их поведение. По характеру работы и по общему складу духовной жизни они гораздо ближе друг к другу, чем к другим интеллигентам, придерживающимся тех же религиозных и политических взглядов или вышедшим из той же среды. Если бы я рискнул перейти на стенографический стиль, я сказал бы, что всех их объединяет будущее, которое они несут в своей крови. Даже не думая о будущем, они одинаково чувствуют перед ним свою ответственность. Это и есть то, что называется общей культурой.
* Было бы любопытно проанализировать, из каких учебных заведений выходит большая часть членов Королевского общества. Во всяком случае, совсем не из тех, которые готовят кадры, например, для министерства иностранных дел или для Совета Королевы.
На другом полюсе отношение к жизни гораздо более разнообразно. Совершенно очевидно, что, если кто-нибудь захочет совершить путешествие в мир интеллигенции, проделав путь от физиков к писателям, он встретит множество различных мнений и чувств. Но я думаю, что полюс абсолютного непонимания науки не может не влиять на всю сферу своего притяжения. Абсолютное непонимание, распространенное гораздо шире, чем мы думаем - в силу привычки мы просто этого не замечаем, - придает привкус ненаучности всей "традиционной" культуре, и часто - чаще, чем мы предполагаем, - эта ненаучность едва не переходит на грань антинаучности. Устремления одного полюса порождают на другом своих антиподов. Если ученые несут будущее в своей крови, то представители "традиционной" культуры стремятся к тому, чтобы будущего вообще не существовало *. Западный мир руководствуется традиционной культурой, и вторжение науки лишь в ничтожной степени поколебало ее господство.
* Сравните "1984" Дж. Оруэлла - произведение, наиболее ярко выражающее идею отрицания будущего, - с "Миром без войны" Дж. Д. Бернала.
Поляризация культуры - очевидная потеря для всех нас. Для нас как народа и для нашего современного общества. Это практическая, моральная и творческая потеря, и я повторяю: напрасно было бы полагать, что эти три момента можно полностью отделить один от другого. Тем не менее сейчас я хочу остановиться на моральных потерях.
Ученые и художественная интеллигенция до такой степени перестали понимать друг друга, что это стало навязшим в зубах анекдотом. В Англии около 50 тысяч научных работников в области точных и естественных наук и примерно 80 тысяч специалистов (главным образом инженеров), занятых приложениями науки. Во время второй мировой войны и в послевоенные годы моим коллегам и мне удалось опросить 30-40 тысяч тех и других, то есть примерно 25%. Это число достаточно велико, чтобы можно было установить какую-то закономерность, хотя большинству тех, с кем мы беседовали, было меньше сорока лет. Мы составили некоторое представление о том, что они читают и о чем думают. Признаюсь, что при всей своей любви и уважении к этим людям я был несколько подавлен. Мы совершенно не подозревали, что их связи с традиционной культурой настолько ослабли, что свелись к вежливым кивкам.
Само собой разумеется, что выдающиеся ученые, обладавшие недюжинной энергией и интересовавшиеся самыми разнообразными вещами, были всегда; есть они и сейчас, и многие из них читали все, о чем обычно говорят в литературных кругах. Но это исключение. Большинство же, когда мы пытались выяснить, какие книги они читали, скромно признавались: "Видите ли, я пробовал читать Диккенса..." И это говорилось таким тоном, будто речь шла о Райнере Марии Рильке. то есть о писателе чрезвычайно сложном, доступном пониманию лишь горсточки посвященных и вряд ли заслуживающем настоящего одобрения. Они в самом деле относятся к Диккенсу, как к Рильке. Одним из самых удивительных результатов этого опроса явилось, наверное, открытие, что творчество Диккенса стало образцом непонятной литературы.
Читая Диккенса или любого другого ценимого нами писателя, они лишь вежливо кивают традиционной культуре. Живут же они своей полнокровной, вполне определенной и постоянно развивающейся культурой. Ее отличает множество теоретических положений, обычно гораздо более четких и почти всегда значительно лучше обоснованных, чем теоретические положения писателей. И даже тогда, когда ученые не задумываясь употребляют слова не так, как писатели, они всегда вкладывают в них один и тот же смысл; если, например, они употребляют слова "субъектный", "объектный", "философия", "прогрессивный" *, то великолепно знают, что именно имеют в виду, хотя часто подразумевают при этом совсем не то, что все остальные.
* "Субъектный" на современном технологическом жаргоне значит "состоящий из нескольких предметов"; "объектный" - "Направленный на определенный объект". Под "философией" понимаются общие соображения или та или иная нравственная позиция. (Например, "философия такого-то ученого, касающаяся управляемых снарядов", очевидно, приведет к тому, что он предложит некоторые "объектные исследования". ) "Прогрессивной" называется такая работа, которая открывает перспективы повышения по службе.
Не будем забывать, что мы говорим о высокоинтеллигентных людях. Во многих отношениях их строгая культура заслуживает всяческого восхищения. Искусство занимает в этой культуре весьма скромное место, правда за одним, но весьма важным исключением - музыки. Обмен мнениями, напряженные дискуссии, долгоиграющие пластинки, цветная фотография: кое-что для ушей, немного для глаз. Очень мало книг, хотя, наверное, не многие зашли так далеко, как некий джентльмен, стоящий, очевидно, на более низкой ступеньке научной лестницы, чем те ученые, о которых я только что говорил. Этот джентльмен на вопрос, какие книги он читает, с непоколебимой самоуверенностью ответил: "Книги? Я предпочитаю использовать их в качестве инструментов". Трудно понять, в качестве каких же инструментов он их "использует". Может быть, в качестве молотка? Или лопаты?
Так вот, книг тем не менее очень мало. И почти ничего из тех книг, которые составляют повседневную пищу писателей: почти никаких психологических и исторических романов, стихов, пьес. Не потому, что их не интересуют психологические, моральные и социальные проблемы. С социальными проблемами ученые, безусловно, соприкасаются чаще многих писателей и художников. В моральном отношении они, в общем, составляют наиболее здоровую группу интеллигенции, потому что в самой науке заложена идея справедливости и почти все ученые самостоятельно вырабатывают свои взгляды по различным вопросам морали и нравственности. Психологией ученые интересуются в такой же мере, как и большинство интеллигентов, хотя иногда мне кажется, что интерес к этой области появляется у них сравнительно поздно. Таким образом, дело, очевидно, не в отсутствии интереса. В значительной мере проблема заключается в том, что литература, связанная с нашей традиционной культурой, представляется ученым "не относящейся к делу" . Разумеется, они жестоко ошибаются. Из-за этого страдает их образное мышление. Они обкрадывают самих себя.
А другая сторона? Она тоже многое теряет. И может быть, ее потери даже серьезнее, потому что ее представители более тщеславны. Они все еще претендуют на то, что традиционная культура - это и есть вся культура, как будто существующее положение вещей на самом деле не существует.
Как будто попытка разобраться в сложившейся ситуации не представляет для нее никакого интереса ни сама по себе, ни с точки зрения последствий, к которым эта ситуация может привести.
Как будто современная научная модель физического мира по своей интеллектуальной глубине, сложности и гармоничности не является наиболее прекрасным и удивительным творением, созданным коллективными усилиями человеческого разума!
А ведь большая часть художественной интеллигенции не имеет об этом творении ни малейшего представления. И не может иметь, даже если бы захотела. Создается впечатление, что в результате огромного числа последовательно проводимых экспериментов отсеялась целая группа людей, не воспринимающих какие-то определенные звуки. Разница только в том, что эта частичная глухота не врожденный дефект, а результат обучения - или, вернее, отсутствия обучения.
Что же касается самих полуглухих, то они просто не понимают, чего они лишены. Узнав о каком-нибудь открытии, сделанном людьми, никогда не читавшими великих произведений английской литературы, они сочувственно посмеиваются. Для них эти люди просто невежественные специалисты, которых они сбрасывают со счета. Между тем их собственное невежество и узость их специализации ничуть не менее страшны. Множество раз мне приходилось бывать в обществе людей, которые по нормам традиционной культуры считаются высокообразованными. Обычно они с большим пылом возмущаются литературной безграмотностью ученых. Как-то раз я не выдержал и спросил, кто из них может объяснить, что такое второе начало термодинамики. Ответом было молчание или отказ. А ведь задать этот вопрос ученому значит примерно то же самое, что спросить у писателя: "Читали ли вы Шекспира?"
Сейчас я убежден, что если бы я поинтересовался более простыми вещами, например тем, что такое масса или что такое ускорение, то есть опустился бы до той ступени научной трудности, на которой в мире художественной интеллигенции спрашивают: "Умеете ли вы читать?", то не более чем один из десяти высококультурных людей понял бы, что мы говорим с ним на одном и том же языке. Получается так, что величественное здание современной физики устремляется ввысь, а для большей части проницательных людей западного мира оно так же непостижимо, как и для их предков эпохи неолита.
Теперь я хотел бы задать еще один вопрос из числа тех, которые мои друзья-писатели и художники считают наиболее бестактными. В Кембриджском университете профессора точных, естественных и гуманитарных наук ежедневно встречаются друг с другом во время обеда *.
* Почти в каждом колледже за профессорскими столами можно встретить представителей всех наук.
Примерно два года назад было сделано одно из самых замечательных открытий за всю историю науки. Я имею в виду не спутник. Запуск спутника - событие, заслуживающее восхищения по совсем иным причинам: оно явилось доказательством торжества организованности и безграничности возможностей применения современной науки. Но сейчас я говорю об открытии Янга и Ли. Выполненное ими исследование отличается удивительным совершенством и оригинальностью, однако результаты его настолько устрашающи, что невольно забываешь о красоте мышления. Их труд заставил нас заново пересмотреть некоторые основополагающие закономерности физического мира. Интуиция, здравый смысл - все перевернулось с ног на голову. Полученный ими результат обычно формулируется как несохранение четности. Если бы между двумя культурами существовали живые связи, об этом открытии говорили бы в Кембридже за каждым профессорским столом. А на самом деле - говорили? Меня не было тогда в Кембридже, а именно этот вопрос мне хотелось задать.
Создается впечатление, что для объединения двух культур вообще нет почвы. Я не собираюсь тратить время на разговоры о том, как это печально. Тем более что на самом деле это не только печально, но и трагично. Что это означает практически, я скажу немного ниже. Для нашей же умственной и творческой деятельности это значит, что богатейшие возможности пропадают впустую. Столкновение двух дисциплин, двух систем, двух культур, двух галактик - если не бояться зайти так далеко! - не может не высечь творческой искры. Как видно из истории интеллектуального развития человечества, такие искры действительно всегда вспыхивали там, где разрывались привычные связи.
Сейчас мы по-прежнему возлагаем наши творческие надежды прежде всего на эти вспышки. Но сегодня наши надежды повисли, к сожалению, в воздухе, потому что люди, принадлежащие к двум культурам, утратили способность общаться друг с другом. Поистине удивительно, насколько поверхностным оказалось влияние науки XX века на современное искусство. От случая к случаю попадаются стихи, в которых поэты сознательно используют научные термины, причем обычно неправильно. Одно время в поэзии вошло в моду слово "рефракция", получившее совершенно фантастический смысл. Потом появилось выражение "поляризованный свет"; из контекста, в котором оно употребляется, можно понять, что писатели считают, будто это какой-то особенно красивый свет.
Совершенно ясно. что в таком виде наука вряд ли может принести искусству какую-нибудь пользу. Она должна быть воспринята искусством как неотъемлемая часть всего нашего интеллектуального опыта и использоваться так же непринужденно, как всякий другой материал.
Я уже говорил, что размежевание культуры не специфически английское явление - оно характерно для всего западного мира. Но дело, очевидно, в том, что в Англии оно проявилось особенно резко. Произошло это по двум причинам. Во-первых, из-за фанатической веры в специализацию обучения, которая зашла в Англии гораздо дальше, чем в любой другой стране на Западе или на Востоке. Во-вторых, из-за характерной для Англии тенденции создавать неизменные формы для всех проявлений социальной жизни. По мере сглаживания экономического неравенства эта тенденция не ослабевает, а усиливается, что особенно заметно на английской системе образования. Практически это означает, что, как только происходит нечто подобное разделению культуры, все общественные силы способствуют не устранению этого явления, а его закреплению.
Раскол культуры стал очевидной и тревожной реальностью еще 60 лет назад. Но в те времена премьер-министр Англии лорд Солсбери имел научную лабораторию в Хэтфилде, а Артур Бальфур интересовался естественными науками гораздо серьезнее, чем просто любитель. Джон Андерсен, прежде чем начать государственную службу, занимался в Лейпциге исследованиями в области неорганической химии, интересуясь одновременно таким количеством научных дисциплин, что сейчас это кажется просто немыслимым *. Ничего похожего не встретишь в высших сферах Англии в наши дни; теперь даже сама возможность такого переплетения интересов представляется абсолютно фантастичной **.
* Он держал экзамены в 1905 году.
** Справедливо, однако, заметить, что благодаря компактности верхушки английского общества, где каждый знает каждого, ученые и не ученые Англии легче завязывают дружеские отношения, чем ученые и не ученые большинства других стран. Точно так же, как многие ведущие политические деятели и административные работники Англии, насколько я могу судить, гораздо живее интересуются искусством и обладают более широкими интеллектуальными интересами, чем их коллеги в Соединенных Штатах. Это, конечно, преимущество англичан.
Попытки перебросить мост между учеными и не учеными Англии выглядят сейчас - особенно среди молодежи - значительно безнадежнее, чем тридцать лет назад. В то время две культуры, уже давно утратившие возможность общения, еще обменивались вежливыми улыбками, несмотря на разделявшую их пропасть. Теперь вежливость позабыта, и мы обмениваемся только колкостями. Мало того, молодые ученые ощущают свою причастность к расцвету, который переживает сейчас наука, а художественная интеллигенция страдает от того, что литература и искусство утратили свое былое значение.
Начинающие ученые к тому же еще уверены - позволим себе эту грубость, - что получат хорошо оплачиваемую работу, даже не имея особенно высокой квалификации, в то время как их товарищи, специализирующиеся в области английской литературы или истории, будут счастливы получить 50% их зарплаты. Ни один молодой ученый с самыми скромными способностями не страдает от сознания собственной ненужности или от бессмысленности своей работы, как герой "Счастливчика Джима", а ведь, в сущности, "сердитость" Эмиса и его единомышленников в какой-то степени вызвана тем, что художественная интеллигенция лишена возможности полностью использовать свои силы.
Из этого положения есть только один выход: прежде всего изменить существующую систему образования. В Англии по тем двум причинам, о которых я уже говорил, это труднее сделать, чем где бы то ни было. Почти все согласны, что наше школьное образование слишком специализировано. Но почти все считают, что попытка изменить эту систему лежит за пределами человеческих возможностей. Другие страны недовольны своей системой образования не меньше, чем Англия, но они не так пассивны.
В США на каждую тысячу человек приходится гораздо больше детей, продолжающих учиться до 18 лет, чем в Англии; они получают несравненно более широкое образование, хотя и более поверхностное. Американцы знают, в чем их беда. Они надеются справиться с этой проблемой в ближайшие десять лет, но, возможно, им придется поторопиться. В СССР (также на тысячу человек населения) обучается больше детей, чем в Англии, и они получают не только более широкое образование, но и гораздо более основательное. Представление об узкой специализации в советских школах - нелепый миф, созданный на Западе *. Русские знают, что перегружают детей, и: всеми силами стараются найти правильный путь.
* Я попытался сравнить американскую, советскую и английскую системы образования в статье "Новый интеллект для нового мира" ("New Minds for the New World"), опубликованной в "New Statesman" 6 октября 1956 года.
Скандинавы, в частности шведы, уделяющие вопросам образования значительно больше внимания, чем англичане, испытывают серьезные затруднения из-за необходимости тратить много времени на изучение иностранных языков. Важно, однако, что проблема образования их тоже тревожит.
А нас? Неужели мы уже закоснели до такой степени, что потеряли всякую возможность что-либо изменить?
Поговорите со школьными преподавателями. Они скажут вам, что наша жесткая специализация, которой нет больше ни в одной стране, - законнейшее дитя системы вступительных экзаменов в Оксфордский и Кембриджский университеты. Но в таком случае было бы вполне естественно изменить эту систему. Не будем, однако, недооценивать наш национальный талант, разными способами убеждать себя, что это не так просто. Вся история развития образования в Англии показывает, что мы способны лишь усиливать специализацию, а не ослаблять ее.
По каким-то неизвестным причинам в Англии уже давно была поставлена цель готовить элиту, значительно меньшую, чем в любой другой сравнимой с нами стране, и получающую академическое образование по одной строго ограниченной специальности. В Кембридже в течение ста пятидесяти лет это была только математика, затем математика либо древние языки и литература, потом были допущены естественные науки. Но до сих пор разрешается изучать только что-нибудь одно.
Быть может, процесс этот зашел столь далеко, что стал необратимым? Я уже говорил, почему я считаю его пагубным для современной культуры. Дальше я собираюсь рассказать, почему я считаю его роковым для решения тех практических задач, которые диктует нам жизнь. И при этом я могу вспомнить только один пример из истории английского образования, когда нападки на систему формальной умственной тренировки принесли какие-то плоды.
Здесь, в Кембридже, пятьдесят лет тому назад было отменено старое мерило заслуг - "математический трайпос" *. Более ста лет ушло на то, чтобы окончательно сложились традиции проведения этих экзаменов. Битва за первые места, от получения которых зависело все будущее ученого, становилась все более и более жестокой. В большинстве колледжей - в том числе и там, где учился я, - занявшие первое или второе место сразу же становились членами совета колледжа. Существовала специальная система подготовки к этим экзаменам. Таким одаренным людям, как Харди, Литлвуд, Рассел, Эддингтон, Джине и Кейнс, пришлось потратить два-три года, чтобы подготовиться к участию в этом необычайно усложненном состязании. Большинство кембриджцев гордились "математическим трайпосом", как почти все англичане и сейчас гордятся нашей системой образования, независимо от того, хороша она или плоха.
* «Математический трайпос» - публичный экзамен на степень бакалавра с отличием, введенный в Кембриджском университете в первой половине XVIII в.; буквально: стул на трех ножках, на котором в то время сидел экзаменующийся.
Если вы займетесь изучением проспектов об образовании, вы наткнетесь на множество горячих доводов в пользу сохранения старой экзаменационной системы в том виде, в котором она существовала еще в древности, когда считалось, что это единственная возможность поддерживать должный уровень, единственный честный способ оценить заслуги и вообще единственное серьезное объективное испытание, которое известно в мире. Но ведь и сейчас, если кто-нибудь осмелится предположить, что вступительные экзамены в принципе - хотя бы только в принципе! - можно изменить, он так же, как сто лет назад, наткнется на стену искренней убежденности в том, что это невозможно, и даже рассуждения по этому поводу будут примерно такими же.
В сущности, старый "математический трайпос" можно было считать совершенным во всех отношениях, кроме одного. Правда, многие находили этот единственный недостаток довольно серьезным. Как говорили молодые талантливые математики Харди и Литлвуд, он заключался в том, что экзамен этот был абсолютно бессмысленным. Они пошли еще дальше н осмелились утверждать, что "трайпос" обесплодил английскую математику на сто лет вперед. Но даже в академических спорах им приходилось прибегать к обходным маневрам, чтобы доказать свою правоту. А ведь между 1850 и 1914 годами Кембридж обладал, видимо, значительно большей гибкостью, чем в наше время. Что было бы, если бы старый "математический трайпос" незыблемо стоял на нашем пути и сейчас? Сумели ли бы мы когда-нибудь его уничтожить?
2. Интеллигенция в роли луддитов
Существует много причин, объясняющих возникновение двух культур; они достаточно глубоки и сложны. Некоторые из этих причин связаны с общими закономерностями исторического развития, другие - с конкретными обстоятельствами истории Англии, третьи - с особенностями внутренней динамики интеллектуальной деятельности людей. Сейчас я хочу выделить одну из них, ту, которая, собственно, является не столько причиной, сколько коррелятом - неким фактором, неизменно фигурирующим во всех дискуссиях на эту тему. Ее легко сформулировать, и она действительно проста. Если забыть о тех, кто связан с наукой, вся остальная западная интеллигенция никогда не пыталась, никогда не хотела и никогда не была в состоянии понять промышленную революцию и еще меньше - принять ее. Интеллигенты, в частности писатели и художники, по существу, оказались луддитами.
Это особенно верно для Англии, где промышленная революция произошла раньше, чем во всем остальном мире, задолго до пробуждения социального сознания человечества. Может быть, этим в какой-то степени объясняется глубокая окаменелость внешних форм нашей сегодняшней жизни. Хотя, как ни странно, Соединенные Штаты оказались почти в таком же положении.
В обеих странах и вообще всюду на Западе первая волна промышленной революции подкралась так незаметно, что никто не понял, что произошло. Между тем это было событие огромной важности или, во всяком случае, чреватое важнейшими последствиями - мы видим их сейчас на каждом шагу, - так как по глубине вызванных им преобразований оно гораздо значительнее всего, что произошло в человеческом обществе после открытия земледелия. По существу, эти две революции - сельскохозяйственная и промышленная - единственные качественные изменения в развитии производительных сил за. всю историю человечества. Но традиционная культура не замечала промышленной революции, а если и замечала, то относилась к ней неодобрительно.
Это, однако, не мешало ей процветать за счет развития промышленности: английские учебные заведения получали свою долю богатств, стекавшихся в Англию в XIX веке, что коварным образом и помогло им стать теми закосневшими институтами, которые мы сейчас знаем. Промышленная революция создавала благосостояние для всех, но интеллигенция отдавала ей лишь жалкие крохи своего таланта и творческой энергии. Чем богаче становилась традиционная культура, тем дальше уходила она от революции; молодых людей готовили для административной деятельности, для службы в Индии, для развития самой культуры, но никогда и ни при каких обстоятельствах им не давали знаний, которые помогли бы им осмыслить промышленную революцию или принять в ней участие. В первой половине XIX века дальновидные люди начали понимать, что для процветания страны необходимо, чтобы часть одаренных умов получала научное и особенно научно-техническое образование. Однако к ним никто не прислушался. Представители традиционной культуры не слушали их вовсе, а ученые-теоретики, такие, какими они тогда были, слушали неохотно. Рассказ об этом, оставшийся близким нам по духу и сейчас, можно найти в книге Эрика Эшби "Технология и чистая наука" *.
* Eric Ashby, "Technology and the Academics" - лучшая и почти единственная книга на эту тему.
Английские ученые не хотели иметь ничего общего с промышленной революцией. "Это равно не угодно ни богу, ни мне", - как сказал Корри, ректор колледжа Иисуса, о поездах, приходящих по воскресеньям в Кембридж. В XIX веке теоретическими проблемами, связанными с промышленностью, интересовались в Англии только чудаки или способные рабочие. Американские социологи говорили мне, что в Соединенных Штатах происходило примерно то же самое. Промышленная революция началась в Новой Англии на 50 лет позже, чем у нас **, но ни в период возникновения, ни потом, в XIX веке, в стране почти не было одаренных людей, обладавших необходимыми специальными знаниями.
** В Америке промышленная революция развивалась очень быстро. Уже в 1865 году в Соединенные Штаты была направлена английская комиссия для изучения эффективности промышленного производства.
Любопытно, что, хотя процесс индустриализации начался в Германии гораздо позже, в 30-40-х годах XIX века, в немецких университетах того времени уже можно было получить довольно хорошее техническое образование, во всяком случае лучшее, чем то, которое было доступно по крайней мере еще двум поколениям молодежи Англии или Америки. Я не понимаю, как это произошло, поскольку совершенно очевидно, что никакого особого смысла в такой системе образования для Германии не было, но тем не менее дело обстояло именно так. В результате сын придворного поставщика Людвиг Монд, окончивший университет в Гейдельберге, оказался крупнейшим специалистом в области прикладной химии. А прусский офицер службы связи Сименс получил в военной академии, а затем в университете прекрасное по тем временам образование в области электротехники. И Монд и Сименс переехали в Англию и не встретили там ни одного достойного соперника. Вслед за ними приехали другие немецкие специалисты, и все они нажили в Англии огромные состояния, как будто находились в богатой колонии, где никто не умел ни читать, ни писать. Такими же богачами становились немецкие инженеры в Соединенных Штатах.
И все-таки почти ни в одной стране мира интеллигенция не поняла того, что произошло. И писатели, конечно, не были исключением. Большинство из них с отвращением отвернулись от промышленной революции, как будто самое правильное, что могли сделать люди, наделенные высокой чувствительностью, - это бесплатно пользоваться благами, которые добывали другие; некоторые, вроде Рескина, Уильяма Морриса, Торо, Эмерсона и Лоуренса, создавали фантастические идиллии, казавшиеся криками ужаса.
Трудно назвать хотя бы одного первостепенного писателя, который был бы искренне увлечен промышленной революцией и увидел бы за уродливыми бараками, дымящимися трубами и торжеством чистогана жизненные перспективы, открывшиеся для бедных и пробудившие у 99% его сограждан надежды, знакомые раньше только редким счастливцам. Так могли бы отнестись к промышленной революции некоторые русские романисты XIX века - у них хватило бы для этого широты натуры, - но они жили в обществе, еще не знавшем индустриализации, и им не представился подходящий случай.
Единственным писателем мирового масштаба, который, кажется, понял значение промышленной революции, был престарелый Ибсен, но на свете существовало не так уж много вещей, которых не понимал этот старик.
Индустриализация была единственной надеждой для бедняков. Я употребляю сейчас слово "надежда" в его примитивном и прозаическом смысле. По-моему, те, кто слишком утончен, чтобы употреблять это слово таким образом, не заслуживают особого уважения. Хорошо нам, располагая всеми жизненными благами, рассуждать о том, что материальные ценности не имеют такого уж большого значения.
Если кто-нибудь по доброй воле решил отречься от цивилизации - пожалуйста, никто не воспрещает ему повторить идиллию на берегах Уолдена. Если этот человек согласен довольствоваться скудной пищей, видеть, как его дети умирают в младенчестве, готов презреть удобства грамотности и жить на двадцать лет меньше, чем ему положено, я в состоянии отнестись к его эстетическому бунту с уважением *. Но к людям, которые - пусть только пассивно - пытаются навязать этот путь тем, кто лишен выбора, я не могу относиться с уважением. Потому что на самом деле выбор известен. С редким единодушием в любом месте, где представляется возможность, бедняки бросают землю и уходят на фабрики, уходят с той быстротой, с которой фабрики успевают их принимать.
* Вполне естественно, что улицы Стокгольма, построенные в XVIII веке, привлекают интеллигентных людей больше, чем Воллингбай. Я полностью с ними согласен. Но это не значит, что надо препятствовать строительству новых Воллингбаев.
Я вспоминаю свои детские беседы с дедом. Его вполне можно считать характерным примером мастерового XIX века. У него был недюжинный ум и сильный характер. В десять лет ему пришлось оставить школу, и с тех пор до глубокой старости он упорно учился сам. Как и все люди его класса, он самозабвенно верил в образование. И все-таки он ушел недалеко: не хватило житейской опытности и сноровки, как я теперь думаю. Все, чего ему удалось добиться, - это должности ремонтного мастера в трамвайном депо. Проживи такую жизнь его внуки, она показалась бы им чудовищно тяжкой и несправедливой. Но ему она казалась иной. Он был достаточно умен и понимал, что способен на большее; он был достаточно горд, чтобы испытывать законное возмущение; он был разочарован своими убогими успехами - и все-таки знал, что по сравнению со своим дедом он сделал огромный шаг вперед.
Его дед был, наверное, батраком. Мне ничего о нем не известно, кроме имени. Он принадлежал к "темному люду", как называли подобных ему людей старые русские либералы, и его жизнь затерялась в необозримом море безымянных тружеников истории. По словам моего деда, его дед не умел ни читать, ни писать, но был человеком способным. Мой дед нисколько не оправдывал то, что общество сделало или, вернее, не сделало для его предков, и нисколько не идеализировал их жизнь. Во второй половине XVIII века батракам жилось вовсе не сладко; только такие снобы, как мы, думают об этом времени как об эпохе просвещения и вспоминают Джейн Остин.
Промышленная революция выглядела по-разному в зависимости от того, откуда на нее смотрели - сверху или снизу. И сегодня тем, кто смотрит на нее из Челси, она кажется совсем не такой, как тем, кто живет в азиатской деревне. Люди вроде моего деда не спрашивали, будет им лучше или нет, если совершится промышленная революция. Они хотели только одного: как-то помочь ей.
Но в более изощренной форме этот вопрос все-таки остается. Мы, жители высокоразвитых стран, поняли, что приносит с собой промышленная революция: огромный рост населения, так как прикладные науки развиваются вместе с медициной и медицинской помощью; достаточное количество пищи - по тем же причинам; всеобщую грамотность, потому что это необходимое условие существования индустриального общества. Есть, конечно, и потери *. Одна из них - милитаризм: организованное индустриальное общество легко может быть переорганизовано для ведения тотальной войны. Но плоды остаются, и с ними остается надежда на социальное переустройство.
* Не надо забывать, что при переходе от охоты и собирательства к земледелию тоже были потери, причем переходный период продолжался гораздо дольше. Для многих людей он наверняка был связан с подлинным духовным обнищанием.
Так что же, представляем ли мы себе, как появились эти преимущества? Научились ли мы понимать старую промышленную революцию? Сейчас мы стоим на пороге новой, научной революции. Неужели она встретит еще меньшее понимание? Никогда прежде мы не сталкивались с явлением, которое нуждалось бы в нашем понимании больше, чем научная революция.
Перевод Ю. Родман
We thank Robert Stockman Jr. and his friends in Moscow for extremely kind assistance in the publication
Уважаемые читатели! Мы просим вас найти пару минут и оставить ваш отзыв о прочитанном материале или о веб-проекте в целом на специальной страничке в ЖЖ . Там же вы сможете поучаствовать в дискуссии с другими посетителями. Мы будем очень благодарны за вашу помощь в развитии портала!
С того момента, когда Чарльз Сноу опубликовал свой знаменитый манифест "Две культуры" ("The Two Cultures"), прошло довольно много времени. "Две культуры" вышли статьей в 1956-м, а потом и отдельным изданием в 1963 году. Работа Сноу имела сильный резонанс - как критический, так и сочувственный. И до сих пор исследователи - и гуманитарии, и ученые, работающие в естественных науках, - возвращаются к идеям, высказанным Сноу более 50 лет назад.
Две культуры-1
Чарльз Сноу так описал парадоксальную ситуацию, сложившуюся к середине XX века: "По образованию я ученый, по призванию - писатель <...> Очень часто - не фигурально, а буквально - я проводил дневные часы с учеными, а вечера - со своими литературными друзьями. Само собой разумеется, что у меня были близкие друзья как среди ученых, так и среди писателей. Благодаря тому, что я тесно соприкасался с теми и другими, и, наверное, еще в большей степени благодаря тому, что все время переходил от одних к другим, меня начала занимать та проблема, которую я назвал для самого себя "две культуры" еще до того, как попытался изложить ее на бумаге. Это название возникло из ощущения, что я постоянно соприкасаюсь с двумя разными группами, вполне сравнимыми по интеллекту, принадлежащими к одной и той же расе, не слишком различающимися по социальному происхождению, располагающими примерно одинаковыми средствами к существованию и в то же время почти потерявшими возможность общаться друг с другом, живущими настолько разными интересами, в такой непохожей психологической и моральной атмосфере, что, кажется, легче пересечь океан, чем проделать путь от Берлингтон-Хауса или Южного Кенсингтона до Челси".
Сноу пишет о том, что если "физики" еще способны воспринимать гуманитарное знание (не знать Гамлета считается все-таки неприличным и среди физиков), то гуманитарии совершенно не стесняются того, что ничего не слышали о Втором начале термодинамики. С точки зрения Сноу, ситуация даже хуже: это не просто непонимание, но непонимание агрессивное - он называет художественную интеллигенцию "новыми луддитами", готовыми разрушить науку фактически по той только причине, что они ее не понимают.
Статья Сноу носит, скорее, открыто алармистский характер. Он постарался максимально остро поставить проблему, а не решать.
Лирики-физики
Я довольно остро ощущаю проблему двух культур, поскольку получил научное (математическое) образование, но на протяжении всей жизни занимался литературой. Среди моих знакомых достаточно и ученых, и писателей. Но необходимо отметить следующее. Среди писателей, с которыми я знаком, есть люди, которых не просто не пугают слова "второе начало", но есть и те, кто неплохо знаком с такими нетривиальными научными областями, как квантовая механика или общая теория относительности. Я могу назвать двух лауреатов "Русского Букера" - Михаила Бутова, окончившего МЭИС (Институт связи), и Александра Иличевского - выпускника Физтеха.
Вероятно, такая ситуация возникла в результате тотального перемешивания, которое произошло за последние десять-двадцать лет в СССР и России: многие люди отказались от своих профессий (в том числе ученые) в силу внешних обстоятельств.
Но тем не менее проблема двух культур остается, и как ее решать, не ясно.
Кризис доверия
В последние десятилетия проявилась другая проблема, обострившая традиционное непонимание естественников и гуманитариев, - это кризис доверия к науке вообще, кризис, который привел к лавинообразному росту псевдонаучных и лженаучных теорий. Причины этого кризиса доверия здесь подробно разбирать не имеет смысла, но констатировать его необходимо.
Подавляющее большинство людей сегодня очень мало знает о науке и обречено верить на слово первому встречному шарлатану. А эти шарлатаны используют все еще высокий (несмотря ни на что) авторитет научного знания, и используют его часто в своих корыстных целях, чем наносят науке тяжелый урон.
К такого рода лженаучным проектам, безусловно, следует отнести "новую хронологию" Фоменко и его последователей. Здесь мы сталкиваемся с другой стороной той же проблемы: полным незнанием учеными (в данном случае математиками) основных принципов гуманитарных исследований. Чтобы довериться "новой хронологии", нужно просто-таки ничего не знать об истории, о лингвистике, о научной методологии. Андрей Зализняк в своей статье , посвященной лингвистическому анализу аргументов, приводимых сторонниками "новой хронологии", кажется, вполне убедительно продемонстрировал ее полную несостоятельность, но его аргументы не были услышаны ни авторами, ни читателями. Таково состояние взаимной глухоты.
Математика без формул
И вот на фоне непонимания и кризиса доверия появляется замечательная и по своей задаче, и по исполнению работа Владимира Успенского, посвященная попытке продемонстрировать современным гуманитариям и просто людям любознательным (инженерам, программистам, бизнесменам), что есть современная математика.
Если мы заглянем в школьные учебники математики, то увидим, что знания, о которых идет речь в школьном курсе, были передним краем науки на рубеже XVII-XVIII веков. Неужели с тех пор ничего не изменилось? Изменилось едва ли не все. Такое положение дел привело Александра Харшиладзе к мысли о необходимости полного пересмотра школьного математического курса: он предложил исключить математику из школьного курса на десять лет, чтобы ее целиком реформировать .
Успенский не настолько радикален. Он пишет: "Итак, есть определенный объем непрактических знаний, обязательный для всякого культурного человека. <...> Мы полагаем, что в этот объем входят и некоторые из тех математических представлений, которые не связаны с утилитарным использованием математики. Указанные представления состоят не только из фактов, но и из понятий и методов оперирования с этими понятиями. <...> В этом очерке мы собираемся говорить о математике как о части культуры духовной".
Такого рода заявления - это еще только "протокол о намерениях". Но дальше начинается самое интересное. Успенский берет одну за другой математические проблемы и показывает, что же они действительно значат для общечеловеческой культуры. И первое, что нужно сделать, - проблему необходимо обрисовать, почти не используя ни формул, ни терминов. Как это сделать? Общего решения здесь не существует. Каждый раз, рассматривая математическую проблему или вводя новое понятие, приходится искать необходимый изобразительный материал, искать метафоры, чтобы сделать изложение наглядным и ясным. Но при этом еще нужно как-то не потерять ни в глубине, ни в содержательности, и еще не наделать ошибок.
Одна из трудностей при написании такого рода статьи - предельное внимание к корректности изложения. Если в статье, опубликованной в математическом журнале, ошибка (например, опечатка) ясна любому читателю, то опечатка в научно-популярной статье читателем может быть принята как истина: у него просто недостаточно квалификации, чтобы эту опечатку заметить. Ценой серьезных усилий Владимиру Успенскому удалось справиться и с этой проблемой.
"Царский путь в математике"

Успенский начинает с натурального ряда. Он показывает, что такой вроде бы привычный объект на самом деле совсем не прост, а полон загадок и сам по себе является абстракцией высокого уровня. Успенский пишет о геометрии Лобачевского и квадратуре круга, о неразрешимых массовых задачах и актуальной бесконечности, о топологии, о гипотезе Пуанкаре, которую удалось доказать Григорию Перельману.
То, что нащупывает в этой статье Успенский, можно назвать "царским путем в математике", которого, как известно, не существует. Успенский предпринимает попытку показать нематематику глубину современной научной деятельности, не обременяя его жесткой необходимостью двигаться шаг за шагом по крутым ступеням абстрагирования, то есть по пути, по которому идет любой нормальный математик. Самое удивительное, что Успенскому многое удается. Его работа, пожалуй, первая внятная попытка действительно пробить стену между двумя культурами. Она показывает, что нет между ними непроходимой границы, если у читателя достаточно внимания и терпения, если автор изобретателен и тонок.
Это дает надежду, что две культуры если и не сольются в одну, то, во всяком случае, перестанут пугать и избегать друг друга. А если читатель поймет хотя бы часть того, о чем пишет Успенский, он не только получит удовольствие от созерцания высоких абстракций, но и будет вооружен для противостояния лженауке.
Вопросы задания
1.Какие типы культуры выделял Сноу Ч.П.?
2. Каковы особенности этих культур?
3. В чем проявляются разногласия и взаимные упреки сторонников разных культур?
4. Какой тип культуры и почему преобладает в наше время?
5.Возможно ли взаимное непонимание между учеными теоретиками и инженерами? Если да – то в чем это проявляется?
6. Пути преодоления «пропасти» между культурами? В соответствие с Вашим ответом на четвертый вопрос задания поясните возможные варианты преодоления «пропасти».
Мировоззрение человека имеет сложную структуру. Смысл его нередко сводят к рациональной основе и рассматривают как систему знаний. Опыт истории культуры показывает ограниченность такого подхода. Наряду с рациональными есть и другие формы постижения мира. Раушенбах Б.В. призывает к синтезу рационально-образного восприятия мира.
Тема 2.
РАУШЕНБАХ Б. В . (1915-2001), российский ученый, академик РАН (1991; академик АН СССР с 1984), Герой Социалистического Труда (1990).
В 1937 закончил Ленинградский институт инженеров гражданского воздушного флота и работал в Реактивном научно-исследовательском институте (РННИ) под руководством С. П. Королева. В 1960 Королев пригласил его работать в ОКБ-1, в котором создавались первенцы отечественной космонавтики. Раушенбах разработал первые системы управления и ориентации космических аппаратов.
В 1970-е стал активно заниматься искусствоведением. Получила известность его книга «Пространственные построения в древнерусской живописи». Книга воспоминаний и размышлений «Пристрастие» (М., 1997). Ленинская премия (1960).
Начну с примера из опыта собственной жизни. В свое время я написал книги по изобразительному искусству, не прибегая к математике, но используя привычную для себя логику рационального научного знания. В беседах с читателями выявилась одна удивительная закономерность: меня прекрасно поняли математики, физики, инженеры и совершенно превратно истолковали многие художники, которые, впрочем, книги хвалили (не желая, возможно, обидеть автора). Тогда я вспомнил, что сам «не понимаю» некоторые труды наших выдающихся искусствоведов. Оказалось, нечто аналогичное испытывают и другие представители «точного» знания - для нас искусствоведческие работы часто представляются «потоками слов», не имеющими строго определенного рационального смысла. Между тем всемирно известные имена авторов, безусловно, гарантировали высокое качество этих книг, и в нашем непонимании были виноваты мы сами.
Так я столкнулся с фактом, что, условно говоря, можно выделить две составляющие языка: одной пользуется логика рационального научного звания, другой - логика образного мышления. Это не только два компонента языка, но и два типа постижения мира, представителям которых подчас бывает трудно понять друг друга.
Для более полного объяснения этого феномена следует, как мне кажется, обратиться к интенсивно изучаемому сегодня факту функциональной асимметрии головного мозга. Оказалось, что левое полушарие обеспечивает главным образом процедуры рационального мышления, а правое - образное восприятие мира. Принадлежность того или иного человека к «физикам» или «лирикам» зависит, по-видимому, и от того, какое из полушарий у него доминирует. Конечно, это деление не абсолютно. Такие гении, как Леонардо да Винчи и Гёте, например, достигли выдающихся успехов и в точных науках, где необходимо строгое рациональное мышление, и в искусствах, требующих от художника особой эмоциональности и развитого образного мышления. Но, как правило, один из типов мышления все же доминирует - идет ли речь о знаменитых деятелях науки и культуры или об обычных людях, не наделенных особыми талантами.
Образное восприятие мира более древнее, логическое мышление возникло позже. (Может быть, поэтому сны, рождающиеся в правом полушарии, не удивляют человека самыми невероятными чудесами - ведь левое, «рациональное», в это время «отключено»?) Два различных пути восприятия и познания мира заметили уже давно. В «Илиаде» Гомера Гектор говорит об ожидающей его трагической судьбе:
Твердо я ведаю сам, убеждаясь и мыслью и сердцем,
Будет некогда день, и погибнет священная Троя...
Для нас важно, что Гектор ведает и мыслью (основываясь на рациональном мышлении), и «сердцем» (опираясь на образные предчувствия). Для дальнейшей античной традиции характерно разделение «мнения», то есть того, что получено посредством чувств, и «знания», имеющего своим источником разум. Только оба эти пути ведут к целостному восприятию мира, оба одинаково существенны, и пренебрежение одним из них пагубно как для личности, так и для общества.
Мы живем в эпоху научно-технической революции, богатую впечатляющими научными открытиями, постепенно охватывающими все области знания. Зачем нам в таком случае какое-то внерациональное постижение мира, базирующееся на чувствах (к примеру, чувстве красоты), а не на рассуждениях и, следовательно, носящее неопределенный и расплывчатый характер? Дело в том, что оно не заменяет рационального, научного, а дополняет его принципиально новыми элементами.
Рассмотрим, например, проблему нравственного поведения человека. Результаты научных исследований, полученные с помощью рациональных приемов мышления, истинны или ложны независимо от соображений морали. Таблицу умножения, а теперь и искусство составления компьютерных программ может успешно применять как очень хороший человек для добрых и полезных дел, так и последний негодяй, в своих преступных целях. Это положение широко известно: наука служит прогрессу, но используется и самыми реакционными силами. Таким образом, выводы рациональной науки не содержат в себе нравственного начала. Но для людей нравственность имеет жизненно важное значение. Представления же о нравственности, тем более «нравственное чувство», возникли задолго до науки - из образного, «иррационального» (сознательно употреблю это слово) постижения мира, а также в процессе обобщения эмпирического коллективного опыта людей. Лишь впоследствии в связи со становлением мировых религий и параллельно с ними появились рациональные, этические обоснования нравственных учений (Сократ, Платон, Аристотель, Спиноза, Кант).
Какой смысл вкладываю я в понятие иррационального? Это отнюдь не нечто таинственное, мистическое, вообще не постижимое разумом. Речь идет скорее о нерациональном в узкологическом понимании: интуитивное постижение выглядит иррациональным по отношению к дискурсивному, логическому умозаключению, оценка с точки зрения индивидуального неповторимого опыта - нерациональной по отношению к экспериментальному доказательству и т. д. Таким образом, все, что далее я буду называть иррациональным, нерациональным, внелогическим и т. п., может оказаться вполне рациональным с более широких позиций познающего интеллекта, объясняющего и оценивающего чувственный опыт и образное мышление.
Поведение человека в окружающем мире опирается на знание о нем. Это знание формируется как бы в двух взаимосвязанных сферах - одной, где решающее слово имеет логика, и другой, где господствуют чувства: сострадание, милосердие, любовь к ближнему, к Отечеству, религиозное чувство, любовь к прекрасному (литературе, музыке, изобразительному искусству) и т. п. Формируют ли эти чувства знание, пусть даже порой бессознательное интуитивное? Да, формируют. Нередко при первом знакомстве с человеком даже у ребенка сразу возникает симпатия или антипатия к нему, без каких-либо явных рациональных оснований для этого. Это чувство становится первым (пусть иногда ошибочным) интуитивным знанием (или, если угодно, «предзнанием») о человеке, которое в значительной мере определяет наше поведение. Иногда поведение диктуется нравственным чувством, и, оправдывая характер своих действий, человек заявляет: «Не могу объяснить почему, но я не в силах был поступить иначе». Это тоже не связанное с непосредственным логическим анализом (в противном случае его можно было бы объяснить) знание того, как себя следует вести в данной ситуации.
Подобные примеры - а их множество - позволили в начале века отдельным поэтам утверждать, что существуют истины, которые невозможно передать прозой, то есть истины, опирающиеся на поэтическую образность восприятия мира. Следовательно, образное, внерациональное восприятие мира - это тоже необходимый источник нашего знания. Более того, иногда подобное знание оказывается точнее рационально-логического в сфере самой рациональной науки.
Случается, что прогнозы специалистов, касающиеся облика техники будущего, нередко менее точны, чем прогнозы писателей. Так, до конца 30-х годов ученые, включая самых крупных, утверждали, будто ядерная энергия никогда не сможет быть использована человеком, тогда как некоторые писатели вполне допускали это в своих сочинениях. В «Гиперболоиде инженера Гарина» А. Толстой описал «луч смерти» в ту пору, по мнению ученых, абсолютно невозможный, а сегодня мы говорим о лазерном оружии как об очевидном. В романе Л. Леонова «Дорога на океан» действует радиолокационная система, которой в тот период еще не существовало. Чем это объяснить? По всей вероятности, ученые слишком привязаны к науке и технике, их сегодняшним постулатам и аксиомам и не в состоянии на основе лишь строго логических умозаключений предвосхитить революционные открытия, в то время как писатель, художник свободны от этих «предубеждений» и, видимо, лучше чувствуют (или предчувствуют) ход развития человечества. Разумеется, это не призыв перейти в науке и технике от знания к чувствам. Как уже отмечалось, нерациональная, эмоциональная составляющая человеческого знания связана прежде всего с нравственным и поэтическим в сознании человека.
У гармонично развитых людей оба источника знания - как рационального, так и внелогического образного - определяют их поведение, причем находятся в известном равновесии. Это, конечно, идеальная схема. Реально многое зависит от индивидуальных особенностей психического развития и от условий жизни того или иного человека. В современном обществе объем и значение рационального, логического знания непрерывно растут. Это наглядно проявляется не только в завоевании компьютерами все новых сфер жизни (от детских игр до расчетов траекторий космических аппаратов), но и в мотивации поступков, действий людей. Люди сегодня все чаще ищут оптимальные решения стоящих перед ними задач, причем понятие оптимальности имеет, как правило, строго рациональный смысл. К примеру, как при наименьших затратах возвести то или иное сооружение, каким путем предприятие может получить максимальную прибыль, насколько вероятны какие-либо события и т. п. Этот способ мышления является основным и в нашей повседневной жизни. Ее стремительный темп исключает при этом выработку «традиционных решений», которые были бы приемлемы и сегодня, и спустя 10-20 лет. Все эти задачи приходится всякий раз решать в новых условиях. Даже профессиональные знания и навыки не могут сегодня оставаться неизменными на протяжении жизни. Опыт показывает: многие вынуждены переучиваться каждые 10- 20 лет - среднее «время жизни» современной техники гораздо меньше средней продолжительности жизни человека.
Именно такие условия приводят к тому, что рациональная составляющая нашего знания о мире нужна постоянно, она все время используется и наращивается, внимание человека приковано прежде всего к ней, а иррациональное значение оттесняется на второй план. Но ведь оно существенно влияет на важные стороны восприятия мира - нравственную оценку происходящего, нравственную мотивацию поступков. Так, нравственность становится чем-то второстепенным, и это все более и более беспокоит человеческое сообщество. Не тревожно ли в самом деле, что оценки «удачливый бизнесмен», «хороший организатор производства» оказываются порой важнее, чем «порядочный человек»?
Говоря о падении нравственности, мы здесь обращаем внимание на то, что раньше рациональная составляющая знания не играла столь гипертрофированной роли. Взять хотя бы жизнь крестьянина в прошлые столетия. Внук использовал ту же «технологию», что и дед, и эта технология крестьянского труда определялась не столько строгими рациональными расчетами, сколько многовековым опытом, передававшимся от поколения к поколению в форме внелогических примет, традиций, обычаев. Мозг не был перегружен проблемами поиска оптимальных решений рационально сформулированных задач, и человек в большей степени мог сосредоточиться на вопросах нравственности (конечно, со временем сама оценка того, что нравственно и что безнравственно, менялась; здесь речь идет только о направленности мозговой деятельности).
Сегодня, в период впечатляющих открытий в физике, астрономии, биологии и других науках, дающих рациональное объяснение жизни Вселенной, возникла грандиозная задача создания научной картины мира и на ее основе научного мировоззрения. Многие считают, что решение этой сверхзадачи облагодетельствует человечество. Однако такое утверждение представляется весьма сомнительным. Мировоззрение, основанное только на научной картине мира, не содержит понятия нравственности. Мы уже говорили о том, что люди с преимущественно развитым рациональным мышлением не в состоянии порой до конца понимать людей образного «поэтического» мышления.
Мир следует постигать, по выражению Гомера, и мыслью, и сердцем. Лишь совокупность научной и «сердечной» картины мира даст достойное человека отображение мира в его сознании и сможет быть надежной основой для поведения. Человечеству нужно целостное мировоззрение, в фундаменте которого лежит как научная картина мира, так и вненаучное (включая и образное) восприятие его (…).
Обратимся снова к вопросу о соотношении рационального и внерационального знания и поразмыслим, как усилить нравственное начало в современной жизни. Это стало настоятельной потребностью и у нас, и на Западе. Однако пути возвращения нравственности принадлежащего ей по праву места в жизни общества далеко не ясны.
В последнее время часто говорят в этой связи о необходимости гуманизации современной жизни. Речь, как я понимаю, идет о том, чтобы несколько потеснить «рациональную» технократическую мотивацию, дав место духовности в формировании поведения как отдельного человека, так и общества в целом. Хотя термин «духовность» употребляется сегодня даже чаще, чем надо, общепринятого его определения не существует. Возможно, впрочем, что строгая терминология здесь излишня, поскольку это не понятие рациональной логики. В прошлом утверждали, что дух - это острие души, тогда духовность - наиболее высокие и тонкие стороны душевности. На мой взгляд, подобное высказывание можно принять в качестве некоторого, пусть не слишком точного указания на общую направленность понятия духовности.
Многие надеются достичь усиления духовного начала в нашей жизни на пути гуманитаризации, обращения к бесценным памятникам отечественной и мировой культуры, которые у большинства людей в повседневной суете отступили куда-то в область периферии сознания и перестали участвовать в формировании поведения. Знакомство с историей, с ее героическими страницами, с деятельностью выдающихся соотечественников (общественных деятелей, художников, военачальников), для которых высокие (далекие от сиюминутных выгод) цели определяли смысл жизни,- все это, безусловно, должно способствовать перестройке сознания в желаемом направлении.
Трудно переоценить роль памятников истории и культуры, в которых овеществлено прошлое Отечества и которые позволяют ощутить связь времен, почувствовать себя звеном в цепи, уходящей в глубь веков, проникнуться и гордостью за прошлое, и сознанием необходимости продолжать великие дела, завещанные нам предшествующими поколениями. Нелишне, быть может, заметить здесь, что «живые» памятники дают больше, чем «мертвые». Находиться в древнем храме (даже неверующему) и знать, что и 300 и 400 лет назад здесь стояли твои предки и слушали ту же службу,- что дает возможность почти физически ощутить их присутствие и их вопрошающий взгляд: достоин ли потомок своих предков,- это совсем не то, что зайти с экскурсоводом в пустой и холодный храм и услышать, что слева видны фрески замечательного художника...
Проблемы нравственности всегда играли ключевую роль в нашей литературе. Достаточно вспомнить таких корифеев, как Ф. М. Достоевский и Л. Н. Толстой, с их поисками нравственных идеалов.
Обо всем этом справедливо и не раз говорили и писали многие наши современники, озабоченные постепенным снижением духовности, засильем близорукого практицизма во всех сферах жизни. Гуманитаризацию можно уподобить благодатному дождю, который даст возможность распуститься цветам духовности.
Чтобы гуманитаризация оправдала возлагаемые на нее надежды, должна существовать некая исходная система элементов нравственности, которую гуманитаризация могла бы усиливать и направлять. Раньше и эта исходная система как бы стихийно формировалась самой жизнью, сейчас данный процесс ослаблен и деформирован. Поэтому полезно обратиться к опыту прошлого.
Азы нравственности ребенок постигал в семье, которая прежде играла значительно более существенную роль в жизни всех ее членов, чем сегодня. Сейчас семья перестает быть средоточием общих забот и интересов образующих ее людей. Нередко отец и мать работают в разных местах, дети после школы на «продленке» и у каждого свои часто трудно сводимые к некоему единству интересы. К тому же задушевные общесемейные беседы нередко вытесняются совместным сидением перед телевизором. Неудивительно, что сегодня первоначальные представления о нравственности ребенок получает в лучшем случае из родительских наставлений, а не из непосредственного наблюдения их жизни и естественного желания подражать им.
Определенную положительную роль играли в прошлом и моральные обязанности, которые налагались на человека в силу его принадлежности к тому или иному сословию. Вспомним хотя бы дворянскую честь, делавшую невозможными некоторые аморальные (с точки зрения дворянства) поступки. Неписаный кодекс дворянской чести человек усваивал еще в детстве, наблюдая поведение взрослых, слушая их разговоры и оценки событий, получая строгие замечания - «так дворяне не поступают!»,- если он в чем-либо ошибался.
Здесь, вероятно, нелишне заметить, что в прошлом нравственное поведение было, с известными оговорками, необходимым условием существования. Семья была, как правило, многодетная, все были заняты работой, дети (в зависимости от возраста) тоже имели много четко определенных обязанностей, жена была привязана к семье не только детьми, но и экономической зависимостью от мужа. Отношения в семье строились в соответствии с обычаями, которые и определяли нравственную атмосферу семьи. Нарушение этих обычаев, уход из семьи были нередко равносильны гибели. Точно так же и крестьянская община: крестьянин должен был вести себя нравственно, как это понимала община. Нарушение неписаных законов общины было немыслимо - ведь вне общины крестьянин существовать не мог. Аналогично и нарушение кодекса дворянской чести как бы исключало провинившегося из дворянской среды, и это нередко кончалось самоубийством.
Сегодня люди стали более свободными - жена вполне способна жить без мужа, о детях и их образовании заботится государство, старость обеспечивается государственными пенсиями и т. п. Люди перестали ощущать коллектив как абсолютно необходимое условие существования. Сегодня можно жить и вне семьи, вне общины, а следовательно, и вне морали, регулировавшей в свое время поведение людей в этих условиях.
Сами условия жизни способствуют отходу людей от морального поведения. Тем более важной становится сегодня задача возвращения к моральному образу жизни, воспитания нравственности (…).
Думаю, гуманитаризация лишь тогда принесет желанные плоды, когда она будет опираться на фундамент уже усвоенных и практикуемых общих нравственных принципов. Как добиться этой цели сегодня? Конкретного ответа пока нет, но решение обязательно должно быть найдено, ибо от этого зависит будущее не только нашего общества, но и цивилизации в целом.
Современная жизнь с ее гипертрофированным стремлением опираться прежде всего на рациональное знание и, как следствие, с пренебрежительным отношением к тому, что я назвал знанием иррациональным, интуитивным, эмоциональным, порождает опасные деформации поведения человеческого сообщества. Обдумывая проблемы оптимального сочетания рационального и иного знания в качестве направляющих импульсов нашей деятельности, невольно приходишь к следующему заключению.
Иррациональная составляющая непременно должна учитываться при определении цели, к которой следует двигаться. Рациональная же - предлагать наиболее разумные способы решения поставленной задачи. Иными словами, цель должна быть нравственной, а пути ее достижения надежными. Совершенно очевидно, что не только конечная цель, но и каждый шаг к ней должен отвечать критериям нравственности.
В последние годы эта проблема приобретает новые черты. До недавних пор рациональная наука с известным превосходством взирала на все «иррациональное», как бы даже мешавшее прогрессу. Но прогрессу, понимаемому с точки зрения именно рационального знания. Взять хотя бы безудержное стремление ведомств к сооружению гигантских плотин, каналов и аналогичных «строек века». Когда гуманитарная общественность возмущалась этим, указывая на гибель исторических памятников, уникальных ландшафтов, среды обитания малых народов, иными словами, на аморальность подобных проектов, ее доводы считались второстепенными, надуманными, недостойными внимания. Всегда более весомым казалось утверждение, что «стране нужны металл, электроэнергия, орошение» и т. п. Сугубо рационально ориентированные «мыслители» с завидным самомнением брались определять, что именно «нужно стране». Процесс этот, в несколько иной форме свойственный и Западу,- естественное следствие неуправляемого научно-технического прогресса. Теперь мы видим его плоды. Весь мир начинает с тревогой смотреть на свое сегодняшнее состояние, да и прогнозны не оставляют места благодушию.
Повсюду наблюдается чрезвычайно любопытная картина: плоскорациональное знание, опираясь на многочисленные компьютеры, само вдруг с ужасом обнаружило, куда оно завело человечество. Стало ясно: требуется коренная перестройка, если можно так выразиться, человеческого поведения. Продолжение практики последних десятилетий с неизбежностью ведет к экологической катастрофе. Но ведь и до этих расчетов гуманитарии, творческая интеллигенция, люди с обостренным чувством нравственной ответственности уже начали борьбу с надвигающейся бедой: много лет составляются Красные книги для защиты природного мира от уничтожения, возникают все новые движения за спасение таких уникальных природных образований, как Байкал, и т. п.
Утрата нравственных критериев в повседневном поведении стала беспокоить людей. Ныне вновь возрастает интерес к внелогическому, недискурсивному знанию, стремление к целостному восприятию мира. Вместо узкорационально понимаемого научного мировоззрения рождается целостное мировосприятие.
Важным моментом нового мировосприятия надо считать и утверждение приоритета общечеловеческих ценностей. Одна из главных общечеловеческих ценностей - это планета Земля, и поэтому новое мышление должно охватывать не только политическую и военную сферу, но и все остальные области человеческой деятельности, в частности связанные с экологией. Все большее значение приобретает примат общечеловеческих ценностей в отношениях между людьми, в стремлении к объединению человечества в одну дружную семью. Везде нужно новое мышление, и одной из характерных его примет должно стать гармоничное сочетание работы мысли и «сердца», рационального и эмоционального, рассудочного и интуитивного знания.
Б. В. Раушенбах .НА ПУТИ К ЦЕЛОСТНОМУ
РАЦИОНАЛЬНО-ОБРАЗНОМУ МИРОВОСПРИЯТИЮ//О человеческом в человеке. М.:Политиздат:1991.-384 с. (стр.22-40).
Вопросы задания
1. Выделить 2 типа мышления, раскрыть сущность каждого из них.
3.В чем смысл иррационального постижения мира?
4. Выяснить различие процессов гуманизации и гуманитаризации знания.
6. Роль семьи в нравственном усовершенствовании человека, её современные проблемы
Тема 3.
С. Кара-Мурза Из книги «Манипулирование сознанием»
Сегодня мы болтаемся между двумя типами жизнеустройства и нас усиленно тянут и толкают к тому берегу, где манипуляция сознанием станет главным и почти тотальным средством господства, так что некоторое время спустя перед нами вообще исчезнет проблема и выбора, и борьбы ...
Те, кто не хотят такого исхода и готовы плыть искать другой берег, хотя бы и в тумане и даже плывя против течения (или хотя бы барахтаться на месте, пока не рассветет), могут найти в этой книги некоторые ориентиры. Есть фундаментальные, инерционные структуры, которые надо защищать, если мы не желаем быть вытащенными на берег манипулятивного общества. Эти структуры далеко еще не сломаны, их сохранение зависит от «молекулярной» поддержки всех нас, от массового пассивного сопротивления…
Речь прежде всего идет о школе русского типа-так, как ее сложила наша культура в советское время. Это школа, воспроизводящая народ и тип культуры. Она не дает следующему поколению превратиться в скопище индивидов, стать людьми массы. Она затрудняет и замену нашей культуры на мозаичную культуру человека массы. Школу ломают, но сломать ее трудно, она слишком ушла корнями в народ. Однако капля камень точит, и без сознательного сопротивления всех нас русскую школу сломают. … В ближайшие годы придется нам искать путь почти без науки, действовать грубее, с большими ошибками и потерями. Будем платить за свою безответственность. СМИ в массе своей, а тем более телевидение, почти полностью не наши. Они определенно стали служить манипуляторам. Можно было, при наличии минимума политической воли, спасти что-то из местных газет и местного телевидения, но такой воли у нас не нашлось.
Другой общий вывод - всегда и везде, и на людях, и в мыслях, противодействовать атомизации, превращению в индивида. Сегодня речь не об идеале соборности или народности, а о сохранении человеческих связей как средства защиты своей личности. При том давлении, которое оказывается на наше сознание, мы можем устоять как личности только опираясь на душевную поддержку собратьев. Каждый акт сохранения, создания или восстановления человеческой связи-это выгрызание кусочка пространства у манипуляторов. Подадим ли рубль нищему или просто обменяемся с ним взглядом, пошутим ли с торговкой на рынке, уступим ли место в метро или поругаемся с обидевшим нас родственником - все это укрепляет нашу психологическую защиту против манипуляции. Важно, чтобы во всех этих связях был диалог. Чтобы это были связи не человек-вещь, а человек-человек.** Тут нет никакой сентиментальности, никакой проповеди доброты, только трезвый и даже циничный расчет.
И в каком-то смысле противоположный совет-всячески избегать потери своего Я и соединения в толпу. Опасность толпотворения сегодня не в физическом собирании в массу. Напротив, массы у нас сейчас собираются в основном организованные. То, что мы видим как собрание, митинг или даже баррикаду, пока что скорее похоже на отряды, а не на толпу-мы еще не прошли стадию атомизации. Толпа образуется как раз когда мы изолированы и соединены через телевизор. Когда между нами нет душевного прямого контакта и нет диалога, а есть гипнотическое действие из одного центра - как на рок-концерте или на стадионе, слушающем фюрера. В эти толпы лучше не ходить. Сказано ведь в Библии: «Не ходите на собрания нечестивых». Казалось бы, почему же не пойти?
Послушать, поинакомыслить самому с собой. Значит нельзя, в Библии плохого совета не дадут. Мы думаем, что сознание наше крепко, но речи «нечестивых» проникают в подсознание. Где же у нас такие собрания? Там, где вещают манипуляторы, с которыми ты не можешь вступить в диалог. Не страшны дебаты, пусть даже оскорбительные, страшен вкрадчивый голос с экрана или из динамика, которому ты не можешь задать вопрос или возразить.
Наконец, нужно принимать, почти насильно, как лекарство, укрепляющие культурные средства - все то, что несет в себе традиционное знание и символы. Прочитать «Тараса Бульбу» или томик пословиц, послушать русские романсы - это сегодня не удовольствие, а лечение. Впрочем, любая хорошая литература или музыка полезны, все сегодня читается другими глазами.
Это - самые общие мысли. Думаю, из книги можно сделать и кое-какие более ограниченные выводы. Первый из них я бы выразил так: принять как догму, что СМИ сегодня есть инструмент идеологии, а не информации. Главное в их сообщениях - идеи, внедряемые в наше сознание контрабандой. Но в качестве «легенды» прикрытия, приманки они везут на контрабандной тележке и нужную нам траву информации. Мы без нее не можем, и приходится заглатывать, что дают. Задача - научиться выплевывать максимум отравы, не жевать ее и не держать даже во рту. Конечно, часть попадет и в желудок, будет нас травить, но надо стараться. ... То есть, изначально не принимать поток сообщений за чистую монету, а каждый раз спрашивать себя: «Что за этим стоит? Зачем нам это сообщают?». Так встает проблема диагностики - отделения зерен от плевел. Пусть веялка наша плоха, разделение очень грубое, много потерь зерна, много остается грязи. Все равно, даже грубый фильтр очень полезен. Удивительно, как много отсеивается просто оттого, что в голове вертится контролирующий вопрос. Достаточно положиться на интуицию, на чувство. Почуешь, что из сообщения «торчат уши» - оно уже в подсознание не войдет, а уж предупрежденное сознание его проверит.
Какими симптомами и признаками скрытой манипуляции может воспользоваться наше сознание и интуиция? В общем, они представлены в разделах книги. Напомню главные.
Язык. Как только политик или диктор начинает говорить на птичьем языке, вворачивая малопонятные словечки вроде ваучера или секвестра - значит, идет манипуляция (возможно, «вторичная», когда и сам говорящий является марионеткой манипуляторов). Если бы говорящий желал, чтобы его сообщение было понято и осмыслено, а не заучено или внушено, то он сделал бы его доходчивым и построил в форме диалога. В нашей жизни, за исключением чисто профессиональных сфер вроде науки и техники, нет проблем, которые.нельзя было бы изложить на доступном русском языке. Непонятные слова имеют или целью подавить слушателя фальшивым авторитетом «эксперта», либо выполняют роль шаманского заклинания и призваны оказать гипнотизирующий эффект. Бывает также, что они-прикрытие самой наглой лжи, как это и было, например, в случае с ваучером.
В общем, язык - важнейшее диагностическое средство, недаром и врачи его смотрят.
Эмоции . Если политик или диктор начинает давить на чувства, пахнет подвохом. Тут лучше временно «очерстветь» и не поддаваться на его дрожащий голос или блеснувшую на глазах слезу. Политика есть политика, эмоции там - как грим. Что значит «пожалеть больного президента»? Он или президент - или больной. Мы видим, что политики, независимо от состояния их здоровья, бывают абсолютно безжалостны к простому человеку, они действуют, как машина. Старенький и беспомощный Сахаров хладнокровно разжигал войну в Нагорном Карабахе, но если кто-то пытался ему возразить в Верховном Совете, тут же целый рой его чувствительных соратников начинал стыдить «агрессивное большинство» - и оно стыдливо пряталось. Слушая сообщения, приукрашенные эмоциями любого типа (хотя бы слезливой жалостью к раненому русскому солдатику), мы и сами должны для начала воспринимать их как счетная машина - независимо от чувств, на которых пытаются играть. Мы должны в уме быстро просчитывать интересы, а чувства - это их дешевая приправа. Всегда надо иметь в уме свои интересы (свои - значит тебя, твоих потомков, твоего народа), а также попытаться представить себе, каковы интересы говорящего или его хозяина. Особенно надо быть начеку, когда тебя хотят разозлить, уязвить, оскорбить. Это неспроста и не ради собственного удовольствия Киселева или Сванидзе. Если на это идут, значит, надо на время отключить твой разум и сосредоточить твое внимание на их гримасах. Нельзя поддаваться, надо смотреть бесстрастно и пытаться понять, что они прячут за этой дымовой завесой,
Сенсационность и срочность . Это - технология общего действия, обеспечивающая шум и необходимый уровень нервозности, подрывающей психологическую защиту. Однако иногда создание искусственного фона сенсационности служит какой-то конкретной цели, чаще всего для отвлечения внимания. Обычно сенсация не стоит выеденного яйца - то слониха в Тайланде родила, то плачущие англичане цветы принесли на могилу принцессы Дианы, то автобус в Португалии в кювет упал, то козленка поймали. С чего бы сообщать это захлебывающимся голосом? Тут уж каждый должен выработать чувство меры - сравнивать важность сообщения с нашими реальными про- блемами. Вообще, те политики и информаторы, которые злоупотребляют этими атрибутами сообщений, просто должны мысленно заноситься в список штатных манипуляторов, и к ним всегда надо относиться с недоверием. Ах, нам только что сообщили! Ах, мы вас будем держать в курсе дела! Да что такого вы сообщили? Завтра сами же об этом забудете. Одними «черными ящиками» замучили - трещат о них после каждой катастрофы, а когда их к всеобщей радости найдут-молчок. Зачем тогда о них говорить?
Повторение. Повторение - главное средство недобросовестной пропаганды. Потому оно и служит хорошим признаком ее наличия. Если вдруг начинают ежедневно мусолить одну и ту же тему или употреблять одни и те же словесные комбинации - дело нечисто. Еще М.Е. Салтыков-Щедрин предупреждал: «Горе - думается мне - тому граду, в котором и улица, и кабаки безнужно скулят о том, что собственность священна! Наверное, в граде сем имеет произойти неслыханнейшее воровство!». Повторение действует на подсознание, а его мы контролируем плохо. Следовательно, надо стараться зафиксировать сам факт повторения какого-то штампа в сознании, и тогда будет как бы включена сигнализация. А, опять завели почему-то ту же песенку- значит, держи ухо востро. Например, периодически наши просвещенные реформаторы поднимают плач по отсутствию купли-продажи земли, но никогда не объяснят толком, зачем им это нужно. Тут - заведомая ставка на внушение, поскольку никаких разумных доводов не существует, а теневой «социальный заказ» принят, да и деньги у заказчика, наверное, уже получены и истрачены.
Дробление. Если политик или помогающее ему СМИ действительно желает объяснить гражданам какую-то проблему и получить их сознательную поддержку в каком-то вопросе, то он всегда изложит эту проблему в целостном виде, хотя бы и кратко. Проблему можно уподобить организму - у нее есть предыстория («родители»), она возникает и развивается, обретает «семью и потомков» - связанные с нею или порожденные ею проблемы. Когда она будет разрешена («умрет»), начнется новый цикл, жизнь следующего поколения - будущее. Политик, который манипулирует нашим сознанием, представляет нам вместо целостной проблемы ее маленький кусочек, да и его дробит на части-так, чтобы мы осмыслить целое и сделать выбор не могли. Мы должны верить ему, как жрецу, который владеет всем знанием.